76
Глава 4.
Единство в многообразии. Политический сепаратизм и принцип народовластия
............. Напрасно
Ты ищешь самодержца — не один
Здесь правит человек — свободен город.
Народ у власти; выборных сменяет
Он каждый год; богатству преимуществ
Здесь не дают, права у бедных те же.
Еврипид
Родина для античного человека есть то, что он может обозреть с крепостных стен своего родного города, не больше. То, что лежало по ту сторону оптического предела этого политического атома, было чужим, было даже враждебным. Здесь и коренится страх античного существования, и этим же объясняется ужасное ожесточение, с которым эти крохотные города уничтожали друг друга.
О. Шпенглер
В предыдущей главе мы познакомились с двумя основными разновидностями греческого полиса, которые весьма условно могут быть определены как «нормальный» или «типичный полис» и «полис-гигант» или «мегаполис». Во многом эти два типа города-государства были прямой противоположностью друг другу. Как было уже замечено, первый из них (нормальный полис) представлял собой сравнительно небольшую гражданскую общину, ориентированную в своем экономическом развитии преимущественно на сельское хозяйство с довольно низким уровнем товарности. Каждый такой полис стремился прежде всего к сохранению определенного внутреннего равновесия как в своей социально-экономической, так и в политической жизни. В двух словах это означает, что, достигнув известного предела в своем территориальном росте, в численности населения, а также и в материальном достатке, нормальный полис этим и удовлетворялся и в дальнейшем лишь старался сохранить за собой то, что ему удалось приобрести. Иначе говоря, он стремился только к самовоспроизводству в одном и том же, почти не меняющемся от поколения к поколению виде.
77
С этой его особенностью была тесно связана тенденция к самоизоляции и замкнутости полисной общины. Греки считали, и в общем вполне справедливо, что только оградив себя неким магическим кругом от всегда враждебного внешнего мира, обезопасившись от всяких посторонних влияний, полис может обеспечить свою внутреннюю стабильность и неизменность (т. е. сможет все время оставаться равным самому себе). Отсюда постоянное стремление нормального полиса к политической автономии и хозяйственной автаркии. Идеал автаркии, т. е. абсолютной самообеспеченности государства всем необходимым для его нормального существования и поддержания независимости, занимает чрезвычайно важное место в греческой политической теории. Одним из самых ревностных его пропагандистов был великий Платон. В своем трактате «Государство» он набросал проект идеального полиса, представив его в виде небольшой общины с ограниченной территорией и немногочисленным населением. Граждане такого полиса отличаются величайшей умеренностью в своих каждодневных потребностях и благодаря этому избавлены от необходимости слишком тесного общения с жителями других государств. Им нет надобности наводнять свой город всякими пришлыми и, как считает философ, ненужными и даже вредными людьми вроде художников и поэтов, которые здесь поставлены для вящего их унижения в один ряд со свинопасами. Благодаря замкнутости и обособленности своего государства, а также ограниченности его территории граждане идеального полиса могут чувствовать себя в полной безопасности: ведь у них нет никаких причин для конфликтов с соседями. Платон допускает и даже признает неизбежным, что в изображенном им государстве для полного его самообеспечения понадобятся и ремесло, и торговля не только внутренняя, но и внешняя. Но все это, по его мнению, должно быть сведено лишь к самому необходимому минимуму, чтобы граждане идеального полиса, не испытывая недостатка в продовольствии и предметах повседневного обихода, в то же время не слишком роскошествовали и не стремились к обогащению.Разумеется, в исторической действительности, довольно сильно отличавшейся от консервативной политической утопии, отгороженность отдельных полисов от всего остального мира и даже от своих ближайших соседей всегда оставалась лишь недостижимым идеалом. Воплотить его в жизнь в практически полном объеме могли позволить себе лишь граждане такого большого и очень богатого, по греческим понятиям, государства, как Спарта, да и то ценой отказа от многих Житейских благ, признанных ненужными и даже вредными их суровым законодателем Ликургом. В своем подавляющем большинстве греческие полисы не могли существовать и нормально развиваться без более или менее налаженных связей с внешними рынками как в самой Греции, так и за ее пределами. Как известно, некоторые из них были вынуждены ввозить даже такие жизненно необходимые сельскохозяйственные продукты, как вино, оливковое масло, зерно. тем не менее сильная автаркическая тенденция, несомненно, существовала не только в политических трактатах Платона, но и в реальной Жизни. Она была заключена в самой природе нормального полиса, Представлявшего собой коллектив земельных собственников, каждый
78
из которых стремился к полной хозяйственной самообеспеченности и независимости.Второй тип полиса или полис-гигант не так уж часто встречается в бедной природными ресурсами Греции. Во всей стране трудно было найти хотя бы несколько плодородных равнин, которые были бы в состоянии прокормить его непомерно разросшееся население. Для того чтобы такой полис мог зародиться и существовать, в каждом конкретном случае было необходимо какое-то особое, исключительно благоприятное стечение обстоятельств, геополитических, экономических, военных и всяких иных. В отличие от нормального полиса, настроенного на простое самовоспроизводство и не претендующего на что-нибудь большее, полис-гигант стремился к непрерывному росту и усилению своего могущества. Эта тенденция могла проявить себя, во-первых, в увеличении его территории за счет захвата, а иногда и порабощения соседних с ним общин; во-вторых, в расширении сферы его политического влияния и установлении господства или, как говорили сами греки, гегемонии над другими полисами; в-третьих, в расширении рамок его гражданской общины и увеличении ее численного состава; в-четвертых, в усложнении его социально-экономической структуры и политической организации и, наконец, в-пятых, в разрастании его городского центра.
Лучшей наглядной иллюстрацией к этой общей схеме развития полиса-гиганта может служить история Афинского государства. Напомним коротко о ее основных этапах. VIII в. до н. э. — необычно раннее объединение целой большой области средней Греции вокруг одного полиса Афин в результате так называемого «Тесеева синойкизма». VI в. до н. э. — становление демократической государственности в Афинах, инициированное преобразованиями Солона и Клисфена в начале и конце столетия с вклинившейся между ними «интермедией» тирании Писистрата и Писистратидов. V в. до н. э. — образование Афинской морской державы (άρχή), вобравшей в себя большую часть прибрежных и островных полисов Эгейского бассейна и примыкающих к нему районов. В самом конце V в. — распад архэ и попытка ее возрождения, хотя уже и в значительно меньших масштабах в 70—60-х гг. IV в. до н. э. Одновременно с этими событиями все более совершенствуется и усложняется политическая система афинской демократии. Растет число полноправных граждан, достигнув в годы правления Перикла (444—429 гг. до н. э.) своего «потолка» — приблизительно в 40—45 000 человек. Быстро развивается афинская экономика. В ней все более выдвигаются на первый план товарно-денежные отношения, крупномасштабная морская торговля, ремесленное производство, базирующееся на рабском труде и в значительной своей части ориентированное на экспортный сбыт своей продукции. В прямой зависимости от всех этих сдвигов увеличивается численность населения самого города Афин и усложняется его социальный состав. Во второй половине V—IV вв. до н. э. в нем проживало, согласно весьма приблизительным подсчетам современных ученых, от 300 до 400 тыс. человек. В это время, как уже было сказано, Афины были, вне всякого сомнения, самым большим из всех греческих городов.
79
На другом конце греческого мира — в Великой Греции — положжение, во многом сходное с Афинами, занимали Сиракузы, самый крупный и сильный из всех полисов Сицилии и южной Италии, форпост греческого влияния в Западном Средиземноморье. Подобно Афинам этот город стал центром большой военной державы, охватывавшей почти всю Сицилию, а также значительную часть южной Италии и Адриатики. Однако военное и политическое могущество Сиракуз было связано не с подъемом демократического движения, как это^было в Афинах, а с утверждением режима личной власти в типичной для Греции форме тирании. Режим этот несколько раз переживал взлеты й падения. Так было в 80—60-е гг. V в. до н. э., когда к власти в Сиракузах пришли тираны из династии Дейноменидов: Гелон и вслед за ним его брат Гиерон, затем вторично в конце V—первой половине IV вв., когда сиракузская тирания достигла своего апогея в правление Дионисия Старшего, и, наконец, еще раз на рубеже IV—III вв. при знаменитом Агафокле. Каждое новое возвышение тирании сопровождалось усилением сиракузской военной экспансии, направленной как против других греческих полисов в Сицилии и Италии, так и против Карфагена, который также пытался установить свое владычество в этом районе. При Дейноменидах и в особенности при Диониии Старшем Сиракузы, видимо, лишь немногим уступали Афинам и в богатстве, и в военном могуществе, и в численности населения.1С известными оговорками к числу полисов-гигантов могут быть отнесены и такие государства, как Коринф, Милет, Родос, возможно, еще несколько полисов, о которых мы знаем намного меньше, чем об этих трех. В отличие от Афин и Сиракуз эти государства не создали сколько-нибудь значительных военных держав. Недостаток военного могущества они компенсировали весьма активной колониальной и торговой экспансией. Так, Коринф в течение долгого времени держал в своих руках транзитную торговлю между восточной и западной частями греческого мира. Милет до его разрушения персами в 494 г. до н. э. поддерживал тесные коммерческие связи с греческими полисами на берегах Черного моря, среди которых большинство составляли его колонии. Родос стал крупнейшим центром мировой торговли уже в эпоху эллинизма в III—II вв. до н. э. Основой его процветания была посредническая торговля хлебом с Египтом и странами Западного Средиземноморья. Во II в. годовой оборот родосской торговли составлял около 8500 серебряных талантов,2 что приблизительно в четыре раза превышало торговый оборот Пирея в
1 Впрочем, еще и до прихода к власти Дионисия, в промежутке между двумя тираническими режимами Сиракузы были настолько сильны, что сумели положить предел распространению афинского владычества на запад, дав достойный отпор объединенным силам Афинской морской Державы во время печально знаменитой Сицилийской экспедиции 415— 413 гг. до н. э.
2 Талант — основная весовая единица, на которой базировались все существовавшие в Греции системы денежного чекана. Аттический талант весил 26,2 кг и равнялся 6000 серебряных драхм.
80

IV в. У этих трех полисов не было такой большой территории, как у Афин и Сиракуз. Однако сами их городские центры и размерами, и численностью населения если и уступали этим двум городам, то лишь ненамного.
Особое место среди крупнейших греческих государств занимает Спарта, которая с полным правом может быть названа «исключением среди исключений». Некоторыми своими чертами это государство больше напоминает один из тех рядовых полисов, каких в Греции было, как мы уже говорили, особенно много, и в то же время резко отличается от таких полисов-гигантов, как Афины, Сиракузы или Родос. Такие характерные особенности нормального полиса, как преобладание сельского хозяйства над ремеслом и торговлей, вытекающая отсюда малочисленность собственно городского населения, наконец, стремление к экономической и политической обособленности от внешнего мира, в Спарте были доведены до крайности, можно даже сказать, до абсурда. Как было уже замечено, Спарта была едва ли не единственным греческим полисом, которому удалось осуществить на практике, а не в теории идеал абсолютной самообеспеченности всем необходимым. Не нуждаясь в подвозе сырья или продовольствия и вообще ни в каких чужеземных товарах, спартанцы полностью отгородились от других греческих государств своеобразным «железным занавесом», сами почти никуда не выезжали и старались также и к себе никого не пускать без особой на то надобности.
Вместе с тем Спарта уже в очень раннее время обнаружила тенденцию к росту и расширению своей территории за счет своих ближайших соседей на юге Пелопоннеса. Уже в IX—VIII вв. до н. э. она покорила всю Лаконию от верховий реки Еврот до его впадения в море. В конце VIII—VII вв. настала очередь Мессении, отделенной от Лаконии хребтом Тайгета. Таким образом было создано самое большое по занимаемой территории из всех греческих государств, в котором активными гражданскими правами пользовалось лишь незначительное меньшинство населения, — так называемые «спартиаты». Основную же его массу составляли неполноправные периеки 1 и порабощенные илоты.2 Военная экспансия Спарты не исчерпала себя завоеванием Мессении. Расширяя свое влияние на Пелопоннесе, она постепенно подчинила себе большую часть государств этого большого полуострова и около середины VI в. до н. э. возглавила так называемый «Пелопоннесский союз». В начале эпохи Греко-персидских войн Спарта была признанным лидером-гегемоном среди
1 Периеки (букв. «живущие вокруг») — жители небольших полисов, разбросанных по территории Спартанского государства. Считаясь лично свободными, были сильно урезаны в своих гражданских правах и во всем подчинялись спартанским властям.
2 Илоты — коренное население Лаконии и Мессении, попавшее в рабство в результате спартанского завоевания. Илоты были прикреплены к земельным наделам спартиатов и выплачивали им оброк натурой в виде регулярных отчислений от урожая. Считались государственными рабами так же, как и земля, которую они обрабатывали.
81
полисов балканской Греции. Правда, вскоре после победы над персами ей пришлось уступить первенство Афинам. Однако в ходе Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н. э.) она не только восстановила, но и значительно расширила свою гегемонию и продолжала удерживать ее вплоть до конца 70-х гг. IV в. В этот период великодержавная политика Спарты вступила в прямое противоречие с ее традиционной самоизоляцией и экономической отсталостью. Результатом этого конфликта был тяжелый внутренний кризис, который спартанское государство так и не смогло преодолеть, хотя кратковременные подъемы его могущества наблюдались еще в III и даже в начале II вв. до н. э. Пример Спарты показывает, что в особо благоприятных условиях даже крайне отсталый греческий полис с примитивной аграрной экономикой, но зато обладающий достаточно эффективной военно-политической организацией был способен не только отстоять свою независимость, но и добиться весьма значительного расширения своей территории, и даже подчинить своей власти многие другие государства. В известном смысле спартанский опыт был позднее повторен римлянами, хотя уже в иных, гораздо более широких масштабах и с более стабильными результатами.По существу вся геополитическая история Греции с VIII по II вв. до н. э. может быть сведена к взаимодействию и одновременно противостоянию и противоборству двух только что охарактеризованных типов полиса: полиса-гиганта с его стремлением к непрерывному росту и утверждению своей державной власти над всей Элладой или, по крайней мере, над какой-то значительной ее частью и нормального полиса, поглощенного прямо противоположной заботой о сохранении своей государственной целостности и самого своего существования перед лицом великодержавных амбиций полиса-гиганта. Самая интересная особенность этого противоборства заключается в том, что, хотя, казалось бы, сила и правда по всем статьям должны были бы быть на стороне больших, непрерывно растущих государств, победу в конце концов одержали не они, а противостоящие им государства-лилипуты. Вплоть до римского завоевания, т. е. до середины II в. до н. э. Греция или, точнее, ее основная европейская часть оставалась во власти своей, как выразился известный немецкий историк Ю. Белох, «извечной наследственной болезни» — политического сепаратизма.
Все попытки преодоления этой болезни, предпринимавшиеся в разное время и с разными целями, так ни к чему и не привели. Маленькие полисные общины, сжатые в кулак полисом-гегемоном, никогда не давали этому кулаку сжаться до конца и раздавить их. Рано или поздно кулак снова разжимался и превращался в раскрытую ладонь. Такова была судьба всех греческих великих держав, последовательно сменявших друг друга на протяжении нескольких столетий: афинской, спартанской, фиванской, сиракузской и даже самой сильной из всех македонской державы. Завоевав страны Востока при Александре Великом, Македонское царство так и не сумело до конца подчинить своей власти строптивые греческие полисы, во всей своей совокупности составлявшие лишь малую часть его обширных владений. Степень их политической свободы оставалась очень большой еще и при преемниках Александра: они продолжали вести войны и
82
между собой, и с македонскими царями, и даже с правителями огромных эллинистических монархий Востока, объединялись в союзы, постоянно переживали острейшие внутренние кризисы и катастрофы и тем не менее продолжали существовать как самостоятельные политические организмы вплоть до того момента, когда все они вместе взятые были придавлены тяжелым солдатским сапогом римского завоевателя.Этот беглый обзор истории греческого полисного мира в пору его наиболее активной жизнедеятельности подталкивает нас к довольно-таки парадоксальному выводу. Оказывается, микроскопические города-государства, несмотря на свою миниатюрность, а, может быть, именно благодаря ей обладали огромным запасом жизнестойкости и внутренней прочности и в этом отношении намного превосходили противостоявшие им великие державы, среди которых были две гигантских мировых империи: персидская и македонская. Персидская держава, созданная царями из династии Ахеменидов, просуществовала всего лишь два с небольшим столетия — с 550 по 330 г. до н. э., причем большую часть этого хронологического отрезка она пребывала в состоянии, так сказать, «полураспада», раздираемая бесконечными внутренними смутами, мятежами и путчами в отдельных сатрапиях. Македонская империя, возникшая на короткое время из обломков державы Ахеменидов, после того как ее прошел из конца в конец со своим войском великий завоеватель Александр, не пережила своего создателя и распалась сразу после его смерти в 323 г. до н. э. Недолговечными оказались и образовавшиеся в результате этого распада монархии преемников Александра — так называемых «диадохов». Македонское царство на Балканах, Пергамское царство в западной части Малой Азии и огромная держава Селевкидов,1 первоначально простиравшаяся от Эгейского моря до северной Индии, окончательно сошли с исторической сцены под натиском римлян на западе, парфян на востоке во второй половине II—первой половине I в. до н. э. Несколько дольше других эллинистических государств — вплоть до 30 г. до н. э. продержался птолемеевский 2 Египет, утративший свою независимость одновременно с гибелью знаменитой царицы Клеопатры. Маленькие греческие полисы в своем подавляющем большинстве сумели сохранить свой государственный суверенитет и свою территорию на протяжении гораздо более длительного исторического срока, составившего не менее шести столетий. После того как Спарта присоединила к себе Мессению во второй половине VII в. до н. э., вплоть до образования на территории европейской Греции в 146 г. до н. э. двух римских провинций — Македонии и Ахайи, политическая карта страны в своих основных контурах менялась сравнительно мало, несмотря на бесконечные междоусобные распри, то и дело вспыхивавшие как между отдельными полисами, так и между целыми их коалициями и блоками. Отстаивая свою
1 Селевкиды — династия, основанная одним из полководцев Александра Селевком I Никатором.
2 Птолемеи — династия, родоначальником которой считался Птолемей, сын Лага, также один из сподвижников Александра Великого.
83
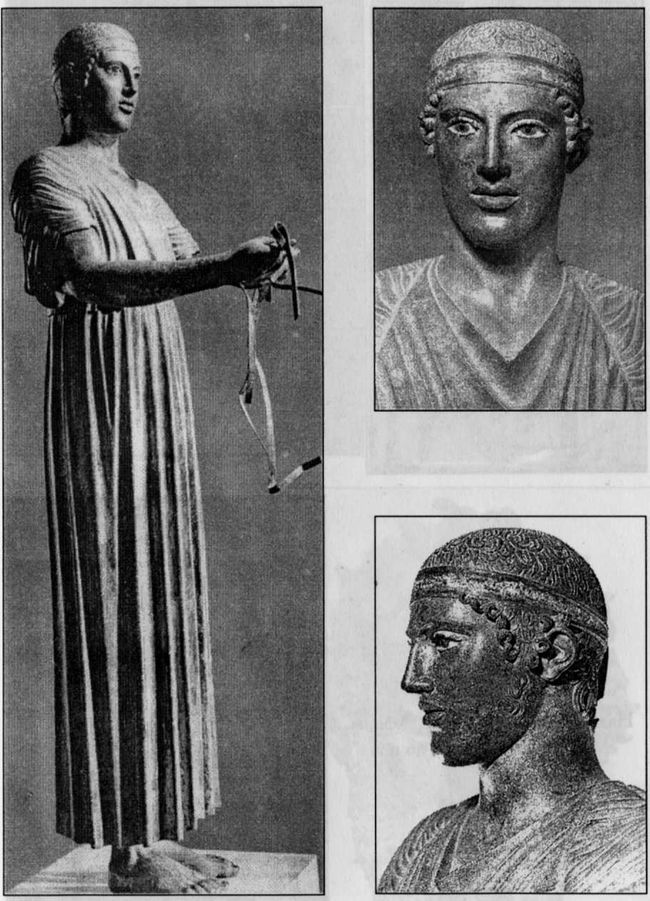
политическую независимость и стремясь к созданию некоего подобия системы коллективной безопасности, малые полисы время от времени объединялись в военные союзы — симмахии. Наиболее известны среди них для VI—V вв. до н. э. уже упоминавшийся Пелопоннесский союз во главе со Спартой и так называемый «Делосский союз» под предводительством Афин, позже трансформировавшийся в Афинскую архэ, для IV в. — Беотийская и Фессалийская федерации и второй Афинский морской союз, для III—II вв. до н. э. — Этолийский и Ахейский союзы. Все эти объединения, однако, не отличались большой внутренней прочностью, представляя собой лишь временные сцепления полисных общин перед лицом внешней опасности. Рано или поздно они вновь распадались на составляющие их «атомы» — суверенные города-государства, которые во всей своей совокупности оставались единственной постоянной и неизменно доминирующей чертой этого вечно меняющегося исторического «ландшафта».1
Размышляя о судьбах греческого народа в древности, современные историки нередко сожалеют о том, что греки так и не стали по-настоящему единой нацией, что, говоря на одном языке, имея общую культуру и обычаи, поклоняясь одним и тем же богам, они тем не менее оставались политически разобщенными и, истощив свои силы в непрерывных междоусобицах, в конце концов стали легкой добычей для чужеземных завоевателей. Некоторые авторы видят причину этого разброда в будто бы присущем грекам чрезмерном легкомыслии и беспечности, а то и просто в их слепоте и скудоумии и ставят им в пример благоразумных немцев, которые после многих веков политической раздробленности все-таки нашли в себе силы для объединения и благодаря этому стали подлинно великой нацией. Все эти сожаления и упреки, разумеется, абсолютно бессмысленны и нелепы. Они свидетельствуют не столько о политической слепоте древних греков, сколько о исторической близорукости тех ученых мужей, которые оплакивают их судьбу, сожалея о том, что они не смогли построить великое панэллинское государство по рецептам Бисмарка или итальянского короля Виктора-Эммануила.
Едва ли греки стали бы еще более великим народом, а их вклад в мировую культуру еще более весомым, если бы им и в самом деле удалось покончить со своими усобицами и распрями и создать единое государство. Вспомним для сравнения хотя бы о римлянах, которые сумели объединить не только всю Италию, но и все древнее Средиземноморье в рамках огромной, еще невиданной доселе державы. Но при этом их культура в целом лишь эпигонски следовала по стопам
1 Раньше других из состава общегреческого сообщества полисов выпали города Малой Азии, попавшие под власть Персидской державы еще в середине VI в. до н. э., освободившиеся от нее в эпоху Греко-персидских войн и вторично захваченные персами в 387 г. до н. э. после так называемого Анталкидова или Царского мира. В III в. до н. э. та же участь постигла греческие полисы, находившиеся на юге Италии и в Сицилии. Все они были присоединены к владениям Римской республики в результате войн, которые римляне вели с царем Эпира Пирром и с Карфагеном.
84
греческой культуры и никогда не смогла ее превзойти. Если вспомнить о временах еще более поздних, то пришлось бы признать, что и великая культура европейского Возрождения формировалась в условиях еще далеко не преодоленной феодальной раздробленности, в микроскопических монархиях и республиках, на которые делились тогдашние Италия, Нидерланды и Германия. Кто знает, быть может, только в тесноте и страшной политической сумятице этих карликовых государств и смогли выковаться такие титанические личности, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель и другие.Вероятно, и в Греции политическая раздробленность страны и сопутствовавшая ей чрезвычайная пестрота социально-экономических укладов и политических режимов отдельных полисов создавали в своей совокупности необычайно широкий спектр возможностей приложения личных дарований каждого человека и их постоянного варьирования. А это, вне всякого сомнения, был весьма важный стимул культурного прогресса. Прежде мы уже говорили о свойственной грекам крайней непоседливости. Среди прочих особенно часто и охотно снимались с места и переселялись из одного полиса в другой представители различных творческих профессий: поэты, философы, скульпторы, архитекторы, врачи и т. д. Гениальный художник или ученый, не признанный в своем отечестве или не находивший здесь благоприятных условий для осуществления своих замыслов, мог найти и понимание, и поддержку своим идеям в любом соседнем или более удаленном государстве. Так, знаменитый философ Анаксагор, будучи уроженцем малоазиатского города Клазомены, уже в молодые годы перебрался в Афины и прожил там почти 30 лет, пользуясь личным расположением самого Перикла. В дальнейшем, когда положение Перикла как признанного главы Афинского государства пошатнулось и он не смог защитить своего друга от обвинений в нечестии, Анаксагор вынужден был бежать из Афин и поселился в Лампсаке на побережье Геллеспонта. Здесь он основал философскую школу и прожил до глубокой старости, пользуясь всеобщим уважением. Или вот другой пример в том же роде. «Отец истории» Геродот, по происхождению гражданин города Галикарнаса в Карии (Малая Азия), рано покинул свое отечество, изгнанный тираном Лигдамидом, много странствовал, побывал в Египте, Персии, Вавилоне, Северном Причерноморье, какое-то время жил на о. Самос, затем оказался в Афинах, где выступал с публичными чтениями отрывков из своей «Истории», за что удостоился большой денежной награды от афинского народа. Уже на склоне лет Геродот принял участие в основании общегреческой колонии Фурии на юге Италии и там, возможно, окончил свои дни.
Отдельные греческие полисы постоянно соперничали между собой, причем соперничество это могло проявляться в самых разнообразных формах, перемещаясь из сферы чисто политических или военных конфликтов в сферу атлетических состязаний или даже высших духовных интересов. Жители каждого даже небольшого городка стремились во что бы то ни стало хоть в чем-нибудь да превзойти своих соседей и таким способом прославиться на всю Элладу. Ради этого они готовы были потратить свои скудные сбережения на строительство велико-
85
лепных храмов, устройство пышных празднеств, атлетических и музыкальных состязаний, театральных представлений, не скупились в издержках, наперебой зазывая к себе в гости популярных поэтов, актеров или ораторов. А сколько было тяжб между полисами из-за права считаться родиной какой-нибудь знаменитости! Вспомним хотя бы известный спор семи греческих городов, претендовавших на то, чтобы их признали отечеством самого великого Гомера. Эти всплески локального патриотизма маленьких гражданских общин при всей их комичности, несомненно, являлись мощным двигателем культурного прогресса, вовлекая всю страну, весь греческий мир в своеобразное состязание в сотворчестве с создателями великих духовных ценностей.Вообще, как мы уже говорили (см. главу 3), принцип единства в многообразии всегда оставался одним из главных основополагающих принципов в истории греческой культуры. В сущности он был заложен в нее уже изначально самой природой Греции, отличавшейся невероятным разнообразием форм и типов ландшафта, почв, растительности и даже климата. Этим в свою очередь была в значительной мере обусловлена чрезвычайная, поистине калейдоскопическая пестрота населявших страну человеческих сообществ, в своем преобладающем большинстве живших по нормам и законам полисного общежития. Каждый полис походил на все остальные, но вместе с тем в чем-то и отличался от них, так же как занимаемая им экологическая ниша — небольшая речная или прибрежная долина, островок в Эгейском или Ионическом море — отличалась от других, соседних с нею ниш какими-то своими неповторимыми чертами. Различались вкусовые оттенки сортов вин или оливкового масла, по которым всегда можно было определить место их производства. Различались приемы мастеров, расписывавших столовую посуду, формы керамики, бронзовых изделий, терракотовой и мраморной скульптуры, архитектурные силуэты храмов и общественных зданий, нравы и обычаи обитателей каждого городка, их версии общегреческих мифов и преданий, чтимые ими божества, принятые ими конституционные акты и своды законов, местные календари, монеты, диалекты и даже начертание одних и тех же букв алфавита. Каждый полис упорно цеплялся за свои древние традиции, своих богов и свой государственный суверенитет, стремясь во что бы то ни стало сохранить свою неповторимую индивидуальность, то «лица необщее выражение», которое позволяло различить его среди огромной «толпы» других почти таких же, как он, маленьких государств. При этом все они отчетливо сознавали свою причастность к великому всеэллинскому единству и гордились этой причастностью, находившей свое выражение в почитании одних и тех же главных богов общегреческого олимпийского пантеона, в общности языка, несмотря на множество сильно различающихся между собой диалектов, и опять-таки нравов и обычаев, при всех их локальных особенностях все же непохожих на чуждые каждому эллину нравы и обычаи народов варварского мира.
Вся Греция походила, таким образом, на гигантский улей, внутри которого каждая ячейка, сохраняя свою обособленность, тем не менее Находилась в состоянии непрерывного взаимодействия с другими, соседними ячейками. Отдельные «соты» этого «улья» вели между
86
собой бесконечную борьбу за первенство и в то же время постоянно поставляли друг другу товары, людей и идеи. В основе своей это была очень тонко сбалансированная система динамического равновесия целой популяции социальных организмов, непрерывно враждующих, обменивающихся информацией и в сущности занятых одним общим делом — постройкой величественного здания греческой культуры. Не в этом ли переплетении соперничества с сотрудничеством, столь непохожем на мертвенную монолитность и неподвижное единообразие древневосточных цивилизаций, заключалась одна из важнейших предпосылок ее немеркнущего классического совершенства?Как мы видим, извечная политическая раздробленность оказывала на жизнь греческого народа отнюдь не только негативное, разрушающее воздействие. Она имела также и свою положительную сторону, которую мы сейчас никак не можем сбрасывать со счета. Очевидно, прежде чем сожалеть о столь упорной приверженности греков к их столь непохожему на современные политические доктрины идеалу самодостаточного и самоуправляющегося полиса или укоризненно пенять им на их неразумность и гибельное легкомыслие, нужно постараться понять, почему они никак не хотели объединяться и все создаваемые ими объединения так легко рассыпались на составляющие их первичные ячейки — маленькие полисные общины.
Действительно ли виной этому была их детская беспечность и политическая безграмотность или же этот упрямый сепаратизм имел свой, как говорят французы, raison d'etre (право на существование)? Обратимся за разъяснениями к самим грекам и, прежде всего, послушаем, что думает об этом такой «кладезь политической премудрости» античной эпохи, как Аристотель.
Рассуждая о природе полиса и о принципах его устройства в своем трактате «Политика», этот замечательный философ опирался на важнейший диалектический закон перехода количества в качество. Как и все в природе и в человеческой жизни, считает Аристотель, полис имеет свою меру, которую он не должен превышать, хотя, с другой стороны, не может быть и намного меньше этой меры. Попросту говоря, для того чтобы оставаться самим собой, полис не должен быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Слишком маленький полис не сможет обеспечить себя всем необходимым для жизни (быть автаркичным, как ему и положено по природе), а значит, не сможет и отстоять свою независимость (быть автономным). Слишком большой полис, т. е. имеющий обширную территорию и чересчур многочисленное население, также не устраивает философа, ибо такому полису трудно подобрать надлежащее государственное устройство (правильную конституцию). «В самом деле, — спрашивает Аристотель, — кто мог бы предводительствовать столь непомерно разросшимся населением? Кто был бы глашатаем? Разве только человек с голосом Стентора».1 Но главный недостаток слишком большого полиса заключается даже не в этом. «Для того чтобы на
1 Стентор — мифический глашатай, обладавший невероятной силы голосом.
87
законном основании принимать решения, — говорит далее Аристотель, — и для того чтобы распределять должности сообразно с достоинствами каждого, граждане непременно должны знать друг друга, знать, какими качествами каждый из них обладает. Там, где этого нет, там и с замещением должностей, и с принятием судебных и всяких иных решений дело неизбежно обстоит плохо». Завершая это свое рассуждение, Аристотель выражает твердую убежденность в том, что и территория, и население каждого хорошо устроенного полиса должны быть «легко обозримы». Необъятный Вавилон не имеет права считаться полисом. В понимании философа, он воплощает в себе какую-то совсем иную политическую категорию.Нетрудно понять, что имел в виду автор «Политики». Важнейший политический принцип, на котором он строит свои рассуждения, — это принцип прямого народовластия, предполагающий непосредственное участие каждого гражданина в управлении государством. Но для того чтобы такая форма правления могла существовать не только в теории, но и в реальной жизни, само государство должно быть очень невелико. И территориально, и по численности населения оно не должно превышать размеров небольшого городка с несколькими прилегающими к нему деревнями. В таком городке типа нашего райцентра все жители знают друг друга в лицо, знают, как говорится, подноготную каждого, его умственные способности, нравственные достоинства и недостатки. А это, как, очевидно, думает Аристотель, дает надежную гарантию от ошибок, во-первых, при выборах должностных лиц (когда каждый знает каждого, легче выбрать на ответственный пост достойного человека) и, во-вторых, при решении всяких сложных и запутанных дел в народном собрании или в суде (здесь опять-таки выслушают прежде всего, что скажут мудрейшие, самые рассудительные граждане общины, а всем известных глупцов и болтунов никто и слушать не станет). Наконец, что, пожалуй, особенно важно, в немногочисленном гражданском коллективе каждый человек может рассчитывать на то, что ему так или иначе удастся воздействовать на общий ход государственных дел и повернуть его так, что он не причинит лично ему никакого вреда, а будет приносить одну лишь пользу. Для этого нужно либо выдвинуть свою кандидатуру на одну из должностей, либо активно вмешиваться в дебаты, происходящие в народном собрании или в совете, либо, если нет необходимых данных ни для того, ни для другого, хотя бы поддержать своим голосом того из выступающих перед народом ораторов, чье мнение кажется и самым разумным, и самым полезным для тебя лично.
Интересно, что в своих размышлениях о том, каким должен быть правильно устроенный полис, Аристотель, видимо, вполне сознательно избегает, конечно же, хорошо известного и ему самому, и его читателям слова «демократия», которое в переводе с греческого собственно и означает «народовластие». Причина этого, на первый
взгляд, странного умолчания, скорее всего, заключается в том, что в сознании большинства греков, живших в 30—20-е гг. IV в. до н. э., когда была написана «Политика», понятие демократии ассоциировалось, в первую очередь, с той весьма специфической ради-
кальной формой народовластия, которая и в этот период, и еще
88
задолго до него, начиная приблизительно с середины V в. до н. э., существовала в Афинах и в некоторых других греческих государствах, державшихся того же политического курса, что и Афины. В глазах наиболее образованной и здравомыслящей части греческого общества, к которой принадлежал Аристотель, эта форма государственного устройства к тому времени успела очень сильно себя скомпрометировать. Бесконечные политические скандалы и правительственные кризисы, публичные потасовки так называемых «демагогов» (букв, «народных вождей»), превративших афинскую экклесию (народное собрание) в своеобразный ринг или ристалище для сведения счетов с политическими противниками, удручающая близорукость и некомпетентность державного демоса (афинского народа), нередко становившегося послушным орудием в руках беззастенчивых, своекорыстных политиканов, позорные провалы во внешней политике и стратегии, не раз ставившие государство на грань катастрофы, бесцеремонное вымогательство денег у состоятельных граждан, иногда осуществлявшееся под благовидными предлогами так называемых «литургий» (повинностей в пользу государства), иногда выливавшееся в неприкрытый грабеж посредством судебных конфискаций имущества, скандальные политические процессы против лучших людей государства, навсегда покрывшие позором афинскую демократию, как,, например, дело Перикла в 430 г. до н. э.; дело аргинусских стратегов в 406 г., процесс Сократа в 399 г.,1 — все эти и многие другие язвы и пороки системы народовластия в ее радикальном афинском варианте давно уже стали «притчей во языцех» в те годы, когда Аристотель взялся за работу над своей «Политикой». О них злорадно толковали авторы бесчисленных политических памфлетов, распространявшихся в самих Афинах в годы Пелопоннесской войны и после ее окончания. Их безжалостно высмеивал в своих комедиях великий Аристофан, не страшившийся бросать в лицо афинскому народу с театральных подмостков горькую правду о нем самом. Трезво и беспристрастно вскрывал их «скальпелем» своей диалектики босоногий афинский мудрец Сократ в своих, казалось бы, непринужденных и безыскусных беседах с учениками и случайными прохожими.1 В 430 г. Перикл, признанный лидер афинской демократии, в течение 14-ти лет бессменно избиравшийся на должность первого стратега, был привлечен к суду по обвинению в незаконном расходовании государственных средств и приговорен к большому штрафу. Оказавшись в политической изоляции и сломленный морально, он вскоре после этого умер. В битве при Аргинусских островах у побережья Малой Азии афинские стратеги одержали последнюю в Пелопоннесской войне большую победу над спартанским флотом. Однако по возвращении в Афины стратеги-победители были обвинены в том, что не сумели подобрать и предать погребению тела погибших в битве афинян. Шестерым из них эта оплошность стоила жизни. В 399 г. афинский суд присяжных приговорил к смерти великого философа Сократа, которому в то время было уже 70 лет. Приговор был основан на клеветническом доносе, обвинениях в безбожии и совращении молодежи. Все три процесса имели совершенно очевидную политическую подоплеку.
89
Для Аристотеля, да и для многих других греческих мыслителей консервативного толка, все эти беды афинской демократии были естественным порождением противоестественного государственного строя, который еще великий учитель Стагирита 1 Платон заклеймил удачно найденным словечком «лихорадочный». В их понимании, по другому и быть не могло в таком ненормально разросшемся полисе, как Афины, где одних только полноправных граждан насчитывалось в период расцвета до сорока с лишним тысяч человек, причем подавляющее большинство среди этой огромной толпы народа составляли люди простые и невежественные, ничего не смыслящие в мудреных государственных делах и тем не менее самоуверенно и нагло берущиеся их решать по своему нехитрому разумению. Ведь здесь, если вспомнить классическую формулу, государством могла управлять «каждая кухарка». Почти на все высшие и второстепенные государственные должности, в так называемый «совет пятисот» или буле, в суд присяжных или гелиэю выборы производились по жребию среди всей массы граждан и благодаря этому их исход не зависел ни от имущественного положения кандидатов, ни от их авторитета и заслуг, ни даже от их умственных способностей и нравственных качеств. В народное собрание, где принимались решения по всем наиболее важным вопросам текущей внешней и внутренней политики, имели доступ все полноправные граждане без каких-либо исключений. Все они пользовались в собрании совершенно одинаковыми правами и могли выступать с любыми заявлениями, предложениями, законопроектами и т. п. Для того чтобы как-то стимулировать все время снижавшуюся политическую активность этой толпы мастеровых, матросов и мелких лавочников (в последние годы Пелопоннесской войны на Пниксе 2 редко удавалось собрать даже 5000 граждан), уже после окончания этой войны, когда государственная казна находилась в самом плачевном состоянии, пришлось ввести плату за посещение собрания. В начале (в конце V в. до н. э.) она составляла 3 обола, но в течение IV в., постепенно увеличиваясь в унисон с непрекращавшейся инфляцией, достигла суммы в 1,5 драхмы 3 за десять обычных заседаний или 1 драхму за каждое экстраординарное заседание. В те времена это был средний дневной заработок ремесленника или наемного рабочего, и он мог спокойно провести день в экклесии, не заботясь о хлебе насущном.41 Стагирит — прозвище Аристотеля, общепринятое в древности и в средние века. Образовано от названия его родного города Стагира в северной Греции.
2 Пникс — один из афинских холмов, во второй половине V—первой половине IV вв. до н. э. — обычно служивший местом народных собраний.
3 Драхма и обол — основные денежные единицы Афинского государства. Одна драхма равнялась шести оболам.
4 Еще при Перикле стали получать плату за исполнение своих обязанностей присяжные заседатели в афинской гелиэе, которых насчитывалось 6000 человек. Потом эта система была распространена и на все остальные государственные должности, за исключением стратегов и казначеев.
90
При таких порядках идея народовластия извращалась в самой своей основе. Народное самоуправление сводилось к простой фикции, ибо очень скоро стало ясно, что народ, в афинском понимании этого слова, просто не способен сам собою управлять. В действительности государством управляли беспринципные демагоги, произвол и корыстолюбие которых могли унять только другие еще более наглые и беззастенчивые «слуги народа», как это со всей очевидностью показал гневный и саркастичный Аристофан в своих бессмертных «Всадниках».1 Народ лишь присутствовал при их препирательствах в экклесии в качестве не то арбитра, не то болельщика на играх и получал за это свои три обола или полторы драхмы. Кроме того, — и это тоже немаловажное обстоятельство, — в Афинах был, с точки зрения Аристотеля, нарушен принцип обозримости полиса и его гражданского коллектива. В огромной толпе людей, составлявшей афинское гражданство, было трудно запомнить каждого в лицо, а стало быть, идея прямого народовластия здесь не могла быть по-настоящему реализована. Но что можно было противопоставить этому явно ненормальному государственному устройству?Рассуждая в одном из разделов «Политики» о том, что следует считать «правильными», а что «неправильными» формами конституции полиса, Аристотель безоговорочно относит демократию к числу «неправильных» форм, ставя ее в один ряд с олигархией и тиранией. Разумной альтернативой этой совершенно безумной политической системы должна быть признана, по его мысли, так называемая «полития», которую он зачисляет в разряд «правильных» форм государства вместе с басилейей или царской властью и аристократией — буквально «властью лучших людей». Но что такое полития? Если попытаться вникнуть в довольно сбивчивые и туманные комментарии Аристотеля к этому месту его трактата, то станет ясно, что, говоря о «политии», он подразумевал все то же прямое народовластие, но гораздо более совершенное, чем афинская демократия, избавленное от всех ее пороков и слабостей. Достичь этого философу удалось самым простым способом. В политии общая численность граждан резко сокращена в сравнении с демократией. Здесь ее ограничивает имущественный ценз, исчисляемый в размерах земельной собственности, принадлежащей каждому гражданину, или же в получаемых с нее ежегодно доходах. Сообразно с таким порядком к участию в управлении государством допускаются только почтенные и солидные люди, обладающие материальным достатком, который избавляет их от необходимости «в поте лица добывать хлеб свой» (они настолько богаты, что могут хотя бы часть работы в своем хозяйстве переложить на плечи рабов и поденщиков) и в то же время оставляет им достаточно досуга для занятий государственными делами. Эти, по определению французского историка Л. Жерне, «фермеры-джентльмены» (в греческой литературе они представлены уже знакомым нам Исхомахом,
1 «Всадники» — одна из самых известных комедий Аристофана. Была поставлена на афинской сцене в 424 г. до н. э. как отклик на развернувшуюся в этот период в связи с событиями Пелопоннесской войны ожесточенную политическую борьбу.
91
главным героем ксенофонтовского «Домостроя») являются не только добропорядочными гражданами, но и стойкими солдатами. В отличие от афинской городской черни, пригодной только для сравнительной легкой службы на флоте, они способны приобрести на свои средства полный комплект тяжелого вооружения и с этим оружием встать в ряды гоплитской фаланги — главной воинской силы греческого полиса избавляя свое государство от необходимости обращения к всегда готовым к услугам, но крайне ненадежным и даже опасным наемникам. В глазах Аристотеля и многих его современников, все это были немалые преимущества, которые позволяли видеть в политии намного более совершенную форму государственного устройства, нежели окончательно обанкротившаяся радикальная демократия.По существу же мечта о политии или, как называли этот строй другие греческие писатели той эпохи, о «конституции отцов» была в исторической ситуации конца IV в., когда вся система самоуправляющихся гражданских общин начала деградировать и распадаться буквально на глазах, своеобразной утопией, попыткой возврата вспять к давно утраченному прошлому, к «поколению марафонских бойцов», как называл Аристофан афинян старого закала, или даже к еще более отдаленным временам. Это был не отказ от самой идеи народовластия как основополагающего политического принципа, а стремление восстановить его во всей его первоначальной чистоте и силе. Размышляя о политии, Аристотель, возможно, вспоминал об афинской конституции времен Солона или Клисфена, когда ядро гражданского коллектива, а вместе с ним и гражданского ополчения составляли зажиточные крестьяне-зевгиты,1 а их вождями были благородные люди — выходцы из лучших афинских родов: Кодридов, Алкмеонидов, Бутадов и др.
Обычной антитезой демократии в политической теории древних греков как до Аристотеля, так и после него была не полития, а олигархия. Сам Аристотель вынужден был считаться с этим в его время очень широко распространенным представлением о двух главных формах греческого полиса и, приноравливаясь к нему, квалифицировал свою политию как промежуточную или смешанную форму государственного устройства, занимающую среднее положение между двумя крайностями — демократией и олигархией и соединяющую в себе их достоинства без их недостатков. Главное, что отличает демократию от олигархии, — это численность людей, имеющих доступ к государственной власти. При демократическом строе власть, как следует из самого его названия, принадлежит народу (демосу) или, что в принципе одно и то же, многим или большинству свободно-Рожденных жителей полиса. В олигархиях властью пользуются соответственно лишь немногие наиболее состоятельные или наиболее знатные люди или меньшинство. Но что следует понимать под большинством и меньшинством? Где проходит грань, разделяющая два этих понятия? Ясно, что и в теории, и на практике разброс мнений
1 Зевгиты (от греческого «ζεύγος» — упряжка волов, основная рабочая сила в хозяйстве греческого крестьянина) — граждане, входившие в третий класс солоновской цензовой системы.
92
по этому кардинальной важности вопросу мог быть очень большим. Здесь невольно приходит на память одна из знаменитых апорий (букв, «затруднений») элейского мудреца Зенона,1 известная под названием «куча». В самом деле, с какого количества зерен начинается куча зерен: с двух, трех, сотни, тысячи? Кто может ответить на этот вопрос? Но точно также мы останавливаемся в недоумении и перед вопросом о том, сколько зерен — полноправных граждан потребуется для того, чтобы государство могло считаться демократией, и насколько их должно быть меньше, чтобы оно было признано олигархией.И вообще какова должна быть численность гражданской общины, чтобы она могла нормально существовать и управлять сама собой без всяких трудностей и задержек? Этот вопрос чрезвычайно занимал греческих теоретиков государства, и отвечали они на него всегда по-разному. Так, знаменитый градостроитель Гипподам Милетский проектировал идеальный полис ровно на 10 000 граждан. Учитель Аристотеля Платон считал, что в правильно устроенном государстве должно быть не более 5040 граждан (почему именно 5040, а не ровно 5000, Платон не объясняет) и соответствующее этой цифре число земельных наделов. По греческим масштабам это были не такие уж маленькие полисы. Как мы уже знаем (см. главу 3), в Греции было немало и совсем микроскопических общин, которые тем не менее, как и все порядочные города-государства, гордились своей автономией, имели свои собственные правительственные учреждения, своды законов, судопроизводство, календари, иногда даже чеканили свою монету. И Платон, и Аристотель, вероятно, сочли бы слишком уж мизерным такое государство, как Микены, в котором, как было уже сказано, в эпоху Греко-персидских войн насчитывалось не более шестисот граждан. В принципе конституция такого игрушечного полиса могла бы быть признана демократической, если бы нам было известно, что все его граждане пользовались более или менее одинаковыми правами и составляли в своей совокупности не менее 1/5— 1/10 от всего свободнорожденного населения, в состав которого входили, надо полагать, жены и дети этих шестисот и, вероятно, какие-нибудь оседлые чужеземцы-ремесленники и торговцы, лишенные гражданских прав. Но если бы те же шестьсот человек составляли весь гражданский коллектив такого огромного государства, как Афины, то, по понятиям греков, это уже была бы самая настоящая олигархия.
Впрочем, очень многое тут зависело от политических взглядов и вообще вкусов и пристрастий того, кто брался судить о государственном устройстве того или иного полиса. В начале лета 411 г. до н. э. в самый разгар Пелопоннесской войны афинское народное собрание, совершенно деморализованное целой серией тяжелых военных неудач, объявило о своем самороспуске и передало власть совету из четырехсот человек, избранных по филам (территориальным округам). Таким образом, афинская демократия ликвидировала самое
1 Элея — греческий полис в Южной Италии. Зенон (V в. до н. э.) был одним из основателей философской школы элеатов, происходивших из этого города.
93
себя и посредством народного волеизъявления установила в государстве олигархический режим — один из многих парадоксов, которыми была так богата история Греции в это неспокойное время. Однако вскоре (уже в сентябре того же 411 г.) народ передумал, разогнал совет четырехсот и принял новую конституцию, согласно которой вся власть в государстве передавалась в руки 5000 наиболее состоятельных граждан, призывавшихся на военную службу в качестве тяжеловооруженных — гоплитов. По словам Фукидида, являющегося здесь нашим основным источником, «афиняне первое время после этого имели наилучший государственный строй, на моей, по крайней мере, памяти». «Действительно, — продолжает историк, — это было умеренное смешение немногих и многих (т. е. олигархии и демократии), и такого рода конституция прежде всего вывела государство из того печального положения, в каком оно было». Из других источников известно, что консервативно мыслящие афиняне называли правление 5000 «демократией», в то время как люди более радикальных взглядов склонны были видеть в этом режиме настоящую олигархию.Подобный же разброд мнений возникал всякий раз, когда древние знатоки теории государственного права брались решать крайне сложный и запутанный вопрос о характере спартанской конституции. Тут, как и в споре о правлении 5000 в Афинах, существовали две диаметрально противоположных позиции. Одни оценивали государственный строй Спарты как типичную олигархию, другие, напротив, как ярко выраженную демократию. Аристотель в «Политике» упоминает об обеих этих точках зрения и приводит основные доводы участников дискуссии. Сам он склоняется, однако, к компромиссному решению проблемы, полагая, что существовавший в Спарте политический режим парадоксально соединял в себе обе противоположных формы государства: демократию и олигархию и в этом смысле был, несомненно, близок к политии, хотя здесь философ и не употребляет этого термина.
К сожалению, мы не знаем, как квалифицировали свою конституцию сами спартанцы. До нас дошел, правда, довольно большой стихотворный фрагмент под названием «Евномия», приписываемый знаменитому спартанскому поэту VII в. до н. э. Тиртею. Евномия в переводе с греческого означает буквально «Благозаконие». И это название, и сам текст стихотворения Тиртея ясно показывают, что Уже в столь раннее время спартанцы очень высоко ценили свой государственный строй и, видимо, гордились им как воплощением законности и порядка. Согласно почти единодушному мнению современных ученых, Тиртеева «Евномия» представляет собой поэтическое переложение так называемой «Большой ретры» — древнейшего конституционного акта спартанского государства, автором которого считался великий законодатель Ликург.1 В сохраненной Плутархом про-
1 Согласно наиболее распространенной версии предания, Ликург принес «Ретру» уже в готовом виде из святилища Аполлона в Дельфах, где записал или запомнил ее со слов прорицательницы — пифии, изрекавшей волю божества.
94
заической версии «Ретры» этот неудобочитаемый и трудный для понимания текст завершается формулой, утверждающей суверенитет народа (демоса) при решении важнейших вопросов государственного управления и законотворчества: «право ответа (на обращенные к народному собранию вопросы высших должностных лиц. — Ю. А.) и власть (принимать решение) пусть принадлежит народу». В античной историографии «Большая ретра» датировалась, как и другие законы Ликурга, очень ранним временем — VIII или даже IX в. до н. э. Если это действительно так, перед нами — древнейшая в истории греческого государственного права формулировка принципа народовластия. Из других источников нам известно, что народное собрание в Спарте и в самом деле всегда оставалось высшей и последней инстанцией в решении всех вопросов, имеющих жизненно важное значение для всего государства, хотя процедура их обсуждения была сравнительно простой и длительные дискуссии, по-видимому, не практиковались (спартанцы вообще славились своей немногословностью).Рассматриваемая под определенным углом зрения Ликургова Спарта, пожалуй, может показаться даже более радикальной формой демократии, чем Афины времен Перикла. Именно здесь, а не в Афинах был проведен в жизнь важнейший лозунг греческого демократического движения — «всеобщий передел земли» (γης αναδασμός). Вся земля, находившаяся под контролем государства на территории Лаконии и Мессении, была поделена на 9000 наделов с приблизительно одинаковой доходностью и роздана в наследственное владение такому же количеству граждан. Вместе с землей были поделены и прикрепленные к ней рабы-илоты. Таким образом, на каждую семью спартиатов приходилось по несколько илотских семей, за счет труда которых существовало все это сословие профессиональных воинов-гоплитов. Принцип равенства граждан был основополагающим принципом спартанского государственного устройства. Здесь он был реализован простейшим и наиболее наглядным из всех возможных способов. Все спартиаты, не исключая людей из самых знатных фамилий, занимавших высшие государственные должности, носили одинаково простую и скромную одежду, ели одинаково приготовленную неприхотливую пищу за общим столом в так называемых сисситиях,1 жили в простых и грубых жилищах, напоминающих крестьянские избы, и пользовались только самой простой домашней утварью, среди которой не было никаких предметов роскоши. Такой образ жизни заповедал спартиатам их суровый и мудрый законодатель Ликург, и, выполняя его заветы, они имели все основания называть себя «равными» (таково было официальное наименование полноправных граждан Спарты), а свое государство соответственно «общиной равных».
Тем не менее, если разобраться, то не так уж далеки от истины были и те, кто видел в Спарте ярко выраженный образец олигархического государства. Хорошо известно, что полноправные спартиаты,
1 Сиссития — букв, «совместная трапеза» (от греч. слова «σίτος» — «хлеб», «пища»). Так назывались в Спарте небольшие сообщества граждан-сотрапезников, а также и устраиваемые ими вскладчину обеды.
95
вся жизнь которых была устроена на началах своего рода казарменного коммунизма, составляли лишь ничтожное привилегированное меньшинство среди общей массы населения Лаконии и Мессении. Его подавляющее большинство состояло из порабощенных илотов, свободных, но сильно урезанных в своих правах периеков и различных других категорий неполноправного и зависимого населения. Учитывая это обстоятельство, Ксенофонт, знавший о внутренней жизни Спарты не понаслышке, а как очевидец, назвал ее одним из «самых малонаселенных государств» тогдашнего греческого мира. При этом он, конечно, имел в виду не абсолютную численность ее населения, а лишь число полноправных граждан, которое в то время, когда он писал свою «Лакедемонскую политик)»1 (около 370 г. до н. э.), составляло немногим более тысячи человек. В дальнейшем это число сократилось еще больше и около середины III в. до н. э. во времена царей-реформаторов Агиса и Клеомена спартиатов было всего-навсего 700 человек. Правда, когда-то, в эпоху расцвета Спартанского государства (VI—первая половина V в. до н. э.) полноправных граждан здесь насчитывалось намного больше. Первоначально их было, по-видимому, столько же, сколько и «ликурговых земельных наделов», т. е. 9000 человек. Но постепенно это число все более и более сокращалось как в результате военных потерь и естественной убыли гражданского населения, так и по причине его прогрессирующего обнищания, которое автоматически влекло за собой утрату гражданских прав.2 Государство, в котором люди, пользовавшиеся всей полнотой гражданских прав, составляли, по всей видимости, не более одного процента от общей численности его свободного населения, в понимании древних, едва ли могло претендовать на то, чтобы считаться настоящей демократией.Итак, если строго следовать и букве, и духу политической доктрины Аристотеля — а она возникла отнюдь не на пустом месте, но была глубоко укоренена в общественном сознании древних греков, — нам придется признать, что в Афинах идеал народовластия, опять-таки в греческом его понимании, оказался недостижимым из-за того, что их гражданский коллектив был слишком многочисленным, в Спарте же случилось то же самое, но по прямо противоположной причине: здесь граждан было слишком мало. «Золотая середина», Т- е. такая форма государственного устройства, при которой основные принципы античной демократии удалось бы реализовать в полной мере, очевидно, должна находиться где-то между этими двумя крайностями. Вероятно, мы были бы недалеки от истины, предположив, что такой политической формой мог быть только так называемый
1 Трактат, посвященный государственному устройству Спарты (Лакедемона).
2 Согласно одному из «законов Ликурга», спартиат, переставший выплачивать установленные обычаем взносы в свою сисситию, вычеркивался из списков полноправных граждан и переводился в разряд так называемых «гипомейонов» (букв, «пониженных»). Та же участь постигала и того, кто по той или иной причине не смог пройти общеобязательный курс знаменитого спартанского воспитания (αγωγή).
96
«нормальный греческий полис», т. е. сравнительно небольшое государство с преимущественно крестьянским, более или менее однородным по своему социальному составу и имущественному положению населением, в среде которого не могло быть слишком резкого численного разрыва между гражданами и негражданами. Как было уже сказано (см. главу 3), полисы именно такого типа составляли среди греческих городов-государств преобладающее большинство. В свою очередь это дает нам основание предполагать, что доминирующей формой политической организации в Греции античной эпохи всегда оставалась умеренная демократия или, по Аристотелю, полития в различных ее модификациях. Государств, в которых принцип прямого народовластия был резко нарушен или же вообще отменен, было, по-видимому, в общей сложности не так уж много. Если народное собрание в полисе было распущено, а его право принимать решения по всем насущным вопросам текущей политики сведено к простой фикции, если народ лишался возможности участия в судебных разбирательствах и не допускался к выборам должностных лиц, если вся власть в государстве сосредотачивалась в руках одного-единственного человека — тирана или же замкнутой корпорации наиболее знатных и влиятельных в городе людей, т. е. олигархов в наиболее точном значении этого слова, греки считали такое положение дел абсолютно ненормальным, расценивая его как своего рода болезнь государственного организма.И здесь мы вплотную подходим к одному из наиболее важных, в полном смысле слова ключевых вопросов всей греческой истории. В самом деле, почему из всех известных им форм государственного устройства греки отдали решительное предпочтение именно демократии в ее простейшем варианте прямого народовластия? Почему в отличие от большинства народов древности и средневековья они не пошли по пути авторитаризма дальше первых и чаще всего неудачных попыток, к числу которых могут быть отнесены практически все известные нам тиранические режимы? Почему, с другой стороны, даже в таких больших государствах, как Афины, не выработалось ничего похожего на современную парламентскую демократию с ее представительной системой управления? Судя по всему, афинские граждане не допускали и мысли о том, что они могут кому-то передоверить свое священное право прямого и непосредственного участия в решении государственных дел. Вопрос о причинах особого пристрастия греков к идее прямого народовластия неоднократно ставился в исторической науке, и ответов на него скопилось уже так много, что трудно было бы их все здесь просто перечислить. Укажем лишь на некоторые наиболее типичные попытки решения стоящей перед нами проблемы.
Иногда на первый план выдвигаются некоторые особенности этнической психологии древних греков, в свою очередь обусловленные особенностями природной среды и прежде всего климатическими условиями Эгейского мира. Рассуждения такого рода строятся по следующей, в общем, незамысловатой схеме: характерная черта греческого климата — обилие ясных солнечных дней. Этим объясняется необыкновенная предрасположенность греков к общению. Вся их
97
жизнь проходила в основном на улице и вообще в таких местах, где скапливается много народа: на рынке, в театре, в святилище, на стадионе и т. д. Да и вся их цивилизация, как остроумно выразился один английский историк, была ориентирована преимущественно на лето и на хорошую погоду. Зимой, в сезон дождей и холодов жизнь замирала. В это время греки старались не воевать, не плавать по морю, сравнительно редко и неохотно, лишь в силу крайней необходимости, собирались на агоре, не устраивали атлетических состязаний и театральных представлений. Отсюда будто бы и происходит присущая им склонность к решению наиболее важных вопросов, касающихся всех членов общины, говоря по-русски, «всем миром», что, в сущности, уже и есть зачаточная форма демократии.Такой выход из положения, хотя и кажется заманчивым, если вдуматься, не так уж и убедителен. Действительно, повышенная общительность или, как говорят психологи, социативность всегда была отличительной чертой греческого темперамента. Но она никак не может считаться его исключительной принадлежностью. Особой склонностью к общению отличаются и многие другие южные народы, в особенности те из них, которые населяют прибрежную полосу и острова Средиземноморья. Однако демократическая форма правления возникла и развивалась почему-то только у греков и среди некоторых народов древней Италии. Весь Ближний Восток, Средняя Азия, Закавказье, Северная Африка, Испания ее практически никогда не знали, хотя в климатическом отношении все эти страны не так уж сильно отличаются от Греции. Общительность, несомненно, присущая, например, большинству арабских народов, туркам, после того как они осели в Малой Азии и подверглись влиянию местных нравов, различным среднеазиатским и кавказским народностям, обычно не выходит за рамки небольших, по преимуществу мужских компаний, регулярно собирающихся для приятного времяпрепровождения в кофейнях, духанах, чайханах и т. п. заведениях. Общительность древних евреев находила полное свое удовлетворение в религиозных диспутах, устраивавшихся в стенах синагоги или прямо на улице. Общительность испанцев до сих пор проявляет себя в знаменитых корридах, танцевальных вечерах и торжественных процессиях в дни католических празднеств. Но во всех этих случаях естественная общительность южного человека почему-то так и не стала почвой и источником народовластия. В своих кофейнях и на уличных сборищах турки, арабы, испанцы могли сколько угодно болтать о политике, перемывать кости своим правителям и их министрам. Никому из них, однако, никогда не приходила в голову, казалось бы, простая мысль о том, что они и сами могут заниматься политикой, управлять государством по своему разумению. Любой турок, так же как и любой араб или испанец, твердо знал, что это — дело не его ума, что для этого существуют совсем другие люди, на которых пала милость султана, эмира или короля. В то же время примитивная форма демократии, в некоторых отношениях довольно близко напоминающая греческое прямое народовластие, существовала в эпоху раннего средневековья у некоторых варварских народностей Северной Европы. Особенно любопытная ее разновидность сложилась в Исландии, далекой север-
98
ной стране с суровым климатом, совсем не похожим на благодатный климат Средиземноморья. Итак, ссылки на греческий климат и на связанную с ним особую общительность греков ничего не объясняют.Приверженцы другой также достаточно распространенной гипотезы делают главный упор на силу демократических традиций, будто бы искони присущих грекам. Такого мнения придерживался, например, выдающийся американский этнограф Л. Г. Морган. В своей книге «Древнее общество» он пытался доказать, что греческая демократия уходит своими корнями в далекое мифическое прошлое, где она прямо и непосредственно смыкается с так называемой «примитивной» или «военной демократией» первобытной эпохи, когда сами греки по существу лишь немногим отличались от каких-нибудь ирокезов или зулусов. Принципиальной разницы между демократией времен Перикла и демократией времен Геракла или Тесея, как склонен был думать Морган, не существовало. В его понимании, это была одна и та же система народного самоуправления, которая лишь постепенно эволюционировала и совершенствовалась. Другие ученые несколько видоизменяют теорию Моргана, полагая, что греческая демократия, как и вся греческая цивилизация, является наследием не вообще первобытной эпохи, а какого-то конкретного первобытного народа, которому демократическая форма правления была присуща в гораздо большей степени, чем всем остальным. Одни считают, что таким народом или народами, заложившими основы европейской демократии когда-то очень давно, в почти непроницаемой мгле тысячелетий, были индоевропейцы, поскольку по языку греки принадлежат именно к этой великой семье. Другие выдвигают прямо противоположную гипотезу, доказывая, что демократические институты греков в своей основе восходят к древнейшему доиндоевропейскому или средиземноморскому субстрату населения Эгейского мира. Все эти рассуждения о якобы врожденной предрасположенности греков к демократии опять-таки ничего не объясняют. Остается непонятным, почему другие народы (будь то индоевропейцы или неиндоевропейцы, в данном случае не так уж важно), одновременно с греками вышедшие на «старт» исторического развития, в конце концов ушли так далеко в сторону от какой бы то ни было демократии и лишь одни греки сохранили приверженность своим первоначальным политическим идеалам.
Третий вариант ответа на вопрос о истоках и предпосылках греческой демократии особенно распространен в марксистской историографии. Его сторонники убеждены, что народовластие было вызвано к жизни специфической направленностью развития греческой экономики, в которой, начиная уже с эпохи Великой колонизации, на первый план выдвинулись ремесло и торговля, что повлекло за собой усиление политической активности торгово-ремесленной прослойки. Именно эта часть общества возглавила демократическое движение и привела его к победе. Однако и этот простой и ясный тезис не выдерживает очной ставки с фактами, точно так же как и два предыдущих. Его приверженцы грешат явной склонностью к модернизации античной истории. Так называемую «демократическую революцию» VII—VI вв. до н. э. они прямо уподобляют буржуазным
99
революциям XVI—XVIII вв., подставляя на место «третьего сословия» греческих купцов и ремесленников. Развитие ремесла и торговли, несомненно, достигло в Греции очень высокого уровня по общим меркам хозяйственной жизни древних обществ. В этом отношении греки, по-видимому, опередили все народы Востока, за исключением, может быть, одних только финикийцев. Однако, как было уже замечено (см. главу 3), основой греческой экономики и в VII—VI вв. до н. э., и в гораздо более поздние времена оставалось сельское хозяйство в различных его видах и формах. Крестьянство составляло подавляющее большинство населения греческих полисов, не исключая и таких больших государств, как Афины. Торгово-ремесленные слои, по-видимому, не пользовались сколько-нибудь значительным общественным весом и влиянием вплоть до начала V в. Основная их масса во многих полисах не имела даже гражданских прав.Политическая активизация этой части общества в Афинах и некоторых других городах-государствах была связана не столько с их экономическим развитием, сколько с ростом их военного могущества, что особенно ясно показывает пример Афинской морской державы. Только здесь в явно ненормальной для Греции обстановке империалистического государства смогла возникнуть радикальная форма демократии со всеми присущими ей особенностями. Древние напрямую связывали политическое усиление беднейших слоев афинского демоса — так называемый «корабельной черни» с созданием самого большого и сильного в тогдашней Греции военного флота и тем вкладом, который он внес в победу над персами и последовавшее за ней разрастание афинского морского владычества. Эту мысль мы встречаем, например, в так называемой «Псевдоксенофонтовой афинской политии» — политическом памфлете первых лет Пелопоннесской войны. Автор этого любопытного сочинения, известный под условным прозвищем «Старый олигарх», так объясняет явно ненормальное, в его понимании, могущество афинского демоса: «... в Афинах справедливо бедным и простому народу пользоваться преимуществом перед благородными и богатыми по той причине, что народ-то как раз и приводит в движение корабли и дает силу государству... вот эти-то люди и сообщают государству силу в гораздо большей степени, чем гоплиты, и знатные, и благородные. И раз дело обстоит так, то считается справедливым, чтобы все имели доступ к государственным должностям как при теперешних выборах по жребию, так и при избрании поднятием рук и чтобы предоставлялась возможность высказываться всякому желающему из граждан».
Однако Афины, как мы не раз уже это подчеркивали, были скорее исключением из общего правила, нежели самим этим правилом. В других греческих полисах еще и в V в. до н. э., когда афинская радикальная демократия достигла своего расцвета, преобладающей оставалась более умеренная и консервативная форма крестьянской демократии. Именно крестьянство, отнюдь не купцы и Ремесленники, было в большинстве греческих государств главным Поборником демократических традиций и идеалов.
В общественном сознании древних греков идеал народовластия был органически слит с идеалом свободы. При этом в понятие свободы
100
вкладывался двоякий смысл. Как правило, свобода политическая шла рука об руку с личной свободой каждого гражданина полиса. Об этом писал Аристотель в «Политике»: «Основным началом демократического строя является свобода... А одним из условий свободы является — по очереди быть управляемым и править... Второе начало — жить так, как каждому хочется». Задолго до Аристотеля эту же мысль с предельной ясностью выразил великий историк Фукидид, вложив ее в уста самого Перикла в его знаменитой надгробной речи, произнесенной на похоронах афинских воинов, павших в первый год Пелопоннесской войны (см. далее в гл. 6).Эти суждения показывают, что греки сознавали себя вдвойне свободными, ибо над ними не было никакого владыки или хозяина ни в их общественной, ни в частной жизни. В этом они видели свое главное преимущество перед всеми варварами, среди которых одни, захваченные в плен на войне, проданные на рынке или попавшие в долговую кабалу, находились в рабстве у своих господ, другие, даже будучи лично свободными, вынуждены были нести на своих плечах тяжкое ярмо деспотии. Это пылкое свободолюбие греков, в свою очередь, было тесно связано с такой важной чертой их менталитета, как чрезвычайно развитое чувство собственного достоинства, склонность к завышенным самооценкам или то, что принято называть индивидуализмом. Итак, важнейшей исторической предпосылкой греческой демократии может считаться самосознание и самоутверждение свободной человеческой личности. Но эта тема требует особого разговора, и ей мы посвятим следующую главу.
Подготовлено по изданию:
Андреев Ю. В.
Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов
к портрету греческой цивилизации. — СПб.: Алетейя, 1998.
ISBN-5-89329-101-8
© Издательство «Алетейя» (Санкт-Петербург) — 1998 г.
© Ю. В. Андреев — 1998 г.