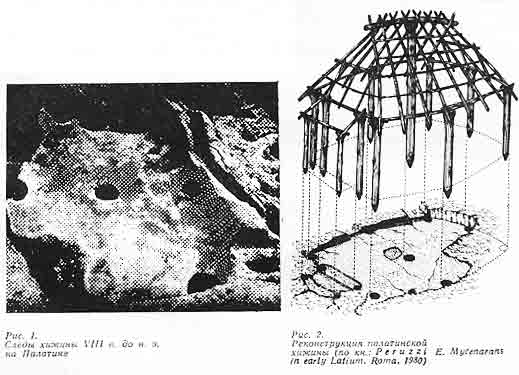|
| 38 |
из произведений античных авторов разных жанров, а также
юридических документов. К сожалению, для рассматриваемого
времени полностью отсутствует местный эпиграфический материал.
Остались лишь
незначительные фрагменты гимна Арвальских братьев в надписи
не
ранее III в. до н. э. Язык ее архаичен. Надпись удостоверяет
само
существование древнейшей доромулова времени коллегии, проливая
свет на хозяйственную жизнь и верования обитателей будущего
Рима.
Для аналогий с Римом может быть использован умбрский эпиграфический
памятник — Игувинские таблицы, известный по поздней копии,
но отражающий очень архаические формы социальной жизни.
Остальные письменные свидетельства много моложе начала царского
времени.
Следы очень древних аграрных отношений видны в сенатском
постановлении о Монтанском паге. в поздней (II в. до н.
э.) надписи,
известной как таблица из Польчеверы, или Решение арбитров
Минуциев. Помогает понять эти отношения и еще более поздняя
(I в. н. э.)
надпись на Велейской таблице. Оба последних памятника касаются
также этнической истории древнейшего Рима.
Другая отличительная черта письменных источников состоит
в том,
что среди них почти нет документальных памятников, кроме
восстановленных законов XII таблиц. Но все это отнюдь не
значит, что
письменная традиция недостойна доверия и должна быть отброшена.
Напротив,, комплексное рассмотрение всех видов источников
позволяет
считать сочинения античных писателей в целом заслуживающими
доверия, что не исключает, разумеется, необходимости критического
подхода к их сообщениям.
Обратимся прежде всего к документальному памятнику — законам
XII таблиц. Вопросу об их историчности посвящена большая
литература [94], хотя специальных работ сравнительно немного.
В настоящее
время законы признаны подлинными свидетельствами V в. до
н. э.
и первой записью обычного права в Риме [95]. Возможное посольство
в Грецию, а точнее, к грекам, потому что оно, скорее, было
отправлено в Великую Грецию, чем в Балканскую, не могло
затронуть местной, римской основы законодательства и, вероятно,
сказалось лишь на
оформлении его, т. е. на приведении законов в некоторую
систему. Но
об этом можно только догадываться, так как современное построение
сборника — результат работы ученых нового времени, собравших
из
сочинений римских юристов и писателей эти законы буквально
по
кусочкам. Представляется принципиально важным наблюдение
Фюсте-
|
|
|
---------------------
[94] См.: Моммзен Т. История Рима, т. I. M., 1936, с. 267 — 268;
Idem. St. — R, Bd I — III. Lpz., 1871 — 1877; Voigt M. Die XII Tafein,
Bd I — II. Lpz., 1883; Täubler E. Unterschuchungen zur Geschichte
des Decemvirat und der Zwölftafeln. Berlin, 1921; Никольский Б.В.
Система и текст XII таблиц. Спб., 1897; Козлов А.И. Законы XII таблиц.
Автореферат канд. дис. Минск, I960.
[95]Täubler E. Unterschuchungen..., S. 62; Bergеr К. Tabulae duodecim. —
RE, Hb. 8, S. 1914; Покровский И.А. История римского права. Спб.,
1913, с. 113; Дьяков В. Н. История римского народа..., с. 113; Сергеев
В.С. Очерки по истории древнего Рима, ч. I. M., 1908, с. 56; Ковалев
С.И. История Рима. Л., 1948, с. 73; Машкин Н.А. История древнего
Рима. M., 1950, с. 128.
|
|
| 39 |
ля де Куланжа [96] о том, что сходство законов XII таблиц
с солоновым законодательством объясняется сходством социального
переворота и условий, в которых он произошел. Следует присоединиться
и к мнениям В.М. Хвостова, считавшего, что законы воспроизводят
«национальное право» римлян, и Б.В. Никольского, отметившего
отсутствие этимологических заимствований в законах XII таблиц,
отражавших именно римские институты и римский быт [97].
В пользу того, что законы XII таблиц, несмотря на их принадлежность
эпохе Ранней республики, могут быть использованы для воспроизведения
явлений царского периода, свидетельствует их чрезвычайно
архаический язык. Однако царское время и начало царского
времени — далеко не одно и то же, в том числе и по языку.
Как будет показано ниже, язык римлян времени Ромула и Нумы
— архаический латинский язык. Тем не менее тексты XII таблиц
ближе к эпохе первых царей, чем любое произведение римской
анналистики. Но главное все-таки состоит в том, что они
удержали ряд очень древних норм, возникших в недрах первобытности.
Действительно, сам судебный процесс, как отмечалось учеными,
носит весьма архаический характер. В том числе явку на суд
ответчика должен обеспечить сам истец (I, 1 — 3; III, 2),
равно как и явку свидетелей — заинтересованные стороны (II,
3), а также наказание за неоплаченный долг — сам кредитор
(III, 3). Из глубины первобытности идет и такое установление,
как убийство младенца, родившегося уродцем (IV, 1). Такое
разрешение при соблюдении определенных условий приписывается
Дионисием (II, 15) Ромулу. Сами эти условия (наличие 5 свидетелей),
оговоренные Дионисием, тоже перекликаются с нормой, известной
по законам XII таблиц, поскольку в них упоминаются mancipium
(VI, 1), maircipatio (VI, 5а), совершавшиеся всегда в присутствии
5 свидетелей. Есть в законах и следы талиона (VIII, 2).
Даже в статьях, утверждавших новые порядки, защиту частной
co6ственности, слышится голос далекой эпохи, веры в злую
магию (VIII, 8а и 8б). О глубокой Древности говорит статья,
утверждавшая решение народа (очевидно народного собрания)
в качестве обязательного, т. е. закона (XII, 5). Все это
позволяет использовать законы XII таблиц как источник для
времени первых царей.
Отголоски древнейших установлений, коренившихся в глубинах
царской эпохи, содержатся и в поздних юридических памятниках.
Важные сведения о римских gentes и familiae, 6 когнатских
и агнатских связях встречаются в Институциях Гая и в более
поздних сборниках, в том числе в «Corpus iuris civilis»,
в Институциях Юстиниана и Дигестах, которые включают в себя
титул, посвященный происхождению права и всех магистратур
(Dig., 1, 2, 2). Этот Очерк принадлежит юристу Помпонию,
который начинает краткое изложение истории римского
|
|
|
---------------------
[96] Фюстель де Куланж. Гражданская община древнего мира. Спб.,
1906, с. 361.
[97] См.: Хвостов В.М. История римского права. М., 1919, с. 76;
Никольский Б.В. Указ. соч., с. 30.
|
| 40 |
права с Ромула. Это важно не только потому, что у Помпония
содержится конкретный материал, но и потому, что очерк свидетельствует
об официальном признании древнейшей традиции и зримо показывает,
как в течение веков не угасала память об ушедших в далекое
прошлое событиях.
Нарративные источники очень разнообразны. Мы уже видели,
что
современные исследователи отказались от гиперкритического
отношения к ним. Степень их значимости, по нашему мнению,
не всегда определяется их сравнительной древностью и жанром.
В массе сохранившихся античных свидетельств о древнейшем
периоде следует все же
выделить главное, вобравшее в себя утраченные первоисточники
и оказавшее наибольшее влияние на последующую античную письменную
традицию. Это — сочинения Цицерона, Варрона, Дионисия Галикарнасского,
Тита Ливия и Плутарха, а также эрудитов — Феста, Павла
Диакона и комментатора Сервия.
Марк Туллий Цицерон был высокообразованным человеком, законоведом
и знатоком отечественной истории. Блестки его эрудиции разбросаны
по всем его произведениям. В его трактате «Об ораторе» (II,
15, 62 — 63) содержится важное замечание о принципах работы
историка: недопущение лжи, пристрастия и злобы. С. Л. Утченко
[98] справедливо замечает, что Цицерон едва ли придерживался
этих правил,
особенно когда дело касалось современных ему событий. Но,
излагая
древнейшую историю, он, видимо, ближе стоял к истине. Он
порой
относился критически к рассказам о Ромуле и Нуме. Он знает
своих
предшественников и очень ценит Катона (г. р., II; I, 1 — 3).
Главное
значение для настоящей темы имеет трактат Цицерона «De re
publica».
Цицерон излагает в нем свою идею об идеальном государстве,
которое
должно сочетать в себе преимущества царской власти, правления
первых людей и нечто вроде контроля над делами со стороны
масс
(I, 45, 69). К царской власти он относится очень положительно,
отмечая, правда, неустойчивость этой формы, возможность
ее вырождения
в тиранию. Но благоприятное впечатление вызывает у него
именно
период первых царей. Традиция об их правлении передана Цицероном
достаточно подробно.
С. Л. Утченко [99] обратил внимание на неточность перевода
термина res publica как государства. Цицерон в рассмотрение
истории Римского государства включил и Ромулов Рим. Таким
образом, в понимании автора трактата Рим — уже государственное
образование. Но
это — вопрос интерпретации им материала, что же касается
известий
о событиях далекого прошлого, то тут Цицерон не дает повода
для
нареканий. Он говорит ту правду, которую знает. И к тому
же как
прекрасный знаток права он объясняет, как функционировали
древнейшие римские институты управления, помогая понять,
как они возникли. Воздействие Цицерона на последующую римскую
(и не только
собственно римскую) письменную традицию, в том числе и на
историо-
|
|
|
---------------------
[98] См.: Утченко С. Л. Политические учения..., с. 107.
[99] См.: там же, с. 84.
|
|
| 41 |
графию, огромно. Сообщенные им сведения представляют собой
нижний пласт сохранившейся в связном виде античной традиции.
Столь же существенное значение имеет и наследие Варрона.
К сожалению, из многих сочинений этого плодовитого ученого
дошли до нас
лишь трактат «О земледелии» и более или менее полно трактат
«О латинском языке». Первый из них дает небольшой, но важный
материал
по экономике и аграрным отношениям, второй — массу сведений
по
социальной, политической, религиозной истории, по топографии
древнейшего Рима, истории его языка. Варрон широко пользуется
этимологическим методом. Ряд его этимологий наивен, многое
не может быть
принято в расчет. Но его огромная эрудиция, тонкое знание
латинского и греческого языков позволяют историку извлечь
из массы приводимых им вариантов объяснений происхождения
слов — политических и социальных терминов, имен божеств
и названий местностей —
очень ценные сведения.
Варрон, как и Цицерон, хорошо знаком с италийским материалом,
не только с анналистикой, но и с местными, как римскими,
так и сабинскими обычаями, преданиями, верованиями. Ему
свойствен сабинский патриотизм, который обусловливает появление
в трактате многих
деталей, проясняющих происхождение ряда древнейших римских
институтов как сабинских. Но это побуждает исследователя
к осторожности в обращении с данными Варрона.
Связное изложение всей древнейшей истории Рима содержится
в труде Дионисия Галикарнасского, поселившегося в Риме в
конце
I в. до н. э. в условиях укрепления принципата Августа.
И это отразилось на освещении раннего Рима греческим ритором
[100]. История первых царей, основателей римского величия,
выдержана едва ли не
в апологетических тонах. При этом Дионисий стремится подчеркнуть
близость и даже родство италийских народов с греками. Однако
наряду с такой настораживающей тенденциозностью сочинение
Дионисия
отличается обширной источниковой базой. Он знаком с римской
традицией и особенно хорошо знает греческих историков, сицилийцев,
весьма осведомленных в древнейшей италийской истории. Поэтому
сведения о заселении Италии индоевропейцами, которые Дионисий
передает, имеют безусловную ценность. Заслуживают доверия
и многие сообщения о социальном строе и религии древнейших
римлян. Он,
видимо, располагал местными очень древними преданиями. Важно
отметить, что Дионисию известны царские установления, причем
по
какому-то очень древнему тексту.
Подробно изложено начало царского периода у Тита Ливия.
В его
рассказе много совпадений с Дионисием, что объясняется использованием
одних и тех же первоисточников, включая анналистику и Цицерона.
Но есть между ними и отличия, обусловленные направлением
их интересов. Ливия особенно интересует политическая история,
а его
изложение социальных и этнических процессов более кратко.
Вплоть
|
|
|
---------------------
[100] Gabba E. Studi su Dionigi da Alicarnasso — Athenaeum, I960,
v. 38, № 3 — 4. p. 175 — 225.
|
|
| 42 |
до середины XX в. мировая источниковедческая критика прилагала
немало усилий, чтобы дезавуировать Ливия как историка и
изобразить
его лишь как ритора. За Ливием, с легкой руки Ипполита Тэна
[101],
закрепилась этикетка отличного рассказчика, и за его сочинением
признавались лишь художественные достоинства. Достоверность
его
сообщений о раннем Риме расценивалась как более чем сомнительная
[102]. Благодаря достижениям в области смежных с историей
наук
можно, перефразируя известное выражение Мищенко, касающееся
Геродота, сказать, что был произведен не в меру строгий
суд над Ливием.
Археология свидетельствует о достоверности передаваемых
Ливием
версий [103]. Для эпохи Ранней республики и конца царского
времени
были выявлены кельтские и этрусские версии его традиции,
была отмечена антиэтрусская тенденция в ряде его пассажей
[104]. Но есть основания говорить о знакомстве Ливия' (может
быть через посредство Варрона или непосредственно) с этрусской
историографией I в. до н. э.
в ее латинском оформлении. Интересно отметить, что А.И.
Немировский [105], негативно относящийся к Ливию как историку,
заметил, что
тот заимствовал сведения о знамениях и чудесах из жреческих
книг.
Но это как раз говорит в пользу Ливия, так как удостоверяет
использование им понтификальных анналов, что придает его
сообщениям
большую надежность.
Кроме Дионисия Галикарнасского и Ливия о древнейшей истории
Рима писали, конечно, и другие античные историки. Но их
значение
не идет в сравнение с первыми. Это зависит от разных обстоятельств:
от степени сохранности трудов, как это имеет место в случае
с Дионом
Кассием, или от меньшего интереса к тому периоду, как у
Саллюстия,
Веллея Патеркула, Аппиана и Тацита; от меньшего интереса
к истории собственно Рима, как у Диодора или Помпея Трога;
от специфики жанра, как у Флора или Аврелия Виктора, писавших
бревиарии.
К тому же всем им свойственна зависимость от наших главных
авторов. И все же каждый из них, не создавая подробной картины
и не
давая полного связного изложения, либо добавляет, порой
даже существенные детали и новые версии, либо подтверждает
данные традиции,
либо указывает на ее неслучайный характер. Важно также,
что в разных произведениях античной исторической литературы
освещаются
различные стороны римской жизни. Все это делает ее использование
совершенно необходимым.
Кое-какие данные, касающиеся древнейших римских обычаев
и
религии, можно извлечь н из сочинений христианских писателей:
Блаженного Августина, Арнобия, Павла Орозия, настроенных
антиязыче-
|
|
|
---------------------
[101] См.: Тэн И. Тит Ливий. Критическое исследование. М., 1900.
[102] Soltau W. Die Anfänge der römischen Geschichtschreibung.
Lpz., 1909; Радциг Н.И. Начало римской летописи. — Учен. зап. Моск.
ун-та, 1904, вып. 22, с. 3 — 8; Мартынов Г. О начале римской летописи.
М., 1904, с. 1 — 2.
[103] Walsh. P. Livy. His historical aims and methods. Cambr.,
1961, p. 276.
[104] В1осh R. Tite Live et les premiers siecles de Rome.'Paris,
1965; Franzero С. М. The life and times of Tarquin the Etruscan.
Lond., 1960.
[105] См.: Немировский А.И. У истоков исторической мысли. Воронеж,
1979, с. 196.
|
|
| 43 |
ски и, значит, антиримски, но передающих зачастую важные
факты.
Плутарх говорит о начале царской эпохи главным образом
в биографиях Ромула и Нумы. Он использует труды своих вышеназванных
предшественников, а сверх того, не сохранившиеся сочинения
греческих авторов. Подобно Дионисию, он стремится подчеркнуть
то общее, что есть в культуре римлян и греков и вместе с
тем прибегает порой к объяснению латинских терминов с помощью
греческих слов со сходным звучанием, что приводит его к
неправильным утверждениям. Но, используя этот прием, он
проявляет себя как автор, пытающийся самостоятельно осмыслить
материал, которым он располагает, а не как компилятор. Впрочем,
простое компилирование у древних авторов с точки зрения
источниковедения несет в себе, как нам кажется, больше положительных
черт, чем отрицательных, поскольку в более или менее чистом
виде доносит до нас сведения из утраченных сочинений. Для
Плутарха характерно приведение нескольких известных ему
версий, что свидетельствует о его незаурядной эрудиции.
Особенно хорошо он знает греческих писателей, в том числе
и Диокла с Пепаретоса (R., III), а также Проматиона, автора
«Истории Италии».
Многие из древних установлений, сохранявшихся в консервативном
римском обществе или упоминавшихся в литературе, перестали
быть понятными уже в начале эпохи Принципата. Это вызвало
к жизни сочинения справочного и комментаторского характера.
При вошедшей в правление Августа моде на древность, вносившую
свою лепту в идеологическую опору его Принципата, появился
словарь Веррия Флакка «De significatione verborum». Его
текст не дошел до наших дней. Но извлечение из него, сделанное
в III в. н. э. грамматиком Фестом, в значительной мере сохранилось,
а то, что было утеряно, к счастью, оказалось в сокращенном,
но близком к оригиналу виде, переписанном в VIII в. н. э.
Павлом Диаконом. Такого рода словари время от времени составлялись
на протяжении эпохи Империи и раннего средневековья. Материал
был расположен в них в алфавитном порядке, пояснения порой
давались со ссылками на источники помимо Веррия Флакка.
Последнее особенно характерно для произведения, представляющего
собой нечто среднее между таким словарем и комментарием,
принадлежащим перу Нония Марцелла (III в.), — «Compendiosa
doctrina per litteras». Этот ряд трудов завершается вышедшим
в VII в. сочинением «Об этимологиях» севильского епископа
Исидора. Исидор несомненно знаком с поздними извлечениями
из словаря Веррия Флакка, но он пользуется и другими античными
авторами, в том числе Цицероном, чьи утверждения передает
почти дословно.
Разрозненные, но зачастую очень важные сведения о разных
сторонах жизни возникающего Рима находятся в произведениях
эрудитов: Плиния Старшего, Валерия Максима, Авла Геллия,
Макробия.
Среди комментаторов особое место принадлежит учителю грамматики
и ритору Сервию Гонорату (IV в.), давшему обширный комментарий
к сочинениям Вергилия, прежде всего к его «Энеиде», с привлечением
данных из произведений многих авторов, чьи сочинения не
сохранились.
|
|
|
|
| 44 |
Античная традиция о происхождении Рима нашла поэтическое
выражение. Образы Ромула, Нумы, их деяния, обычаи и установления
далеких и почитаемых предков были с течением времени канонизированы
и стали достоянием художественного творчества. Особым вниманием
поэтов пользовалась троянская легенда. Она была воспета
в эпоху Августа талантливым Вергилием. В «Энеиде» отразилась
официальная идеология времен первого императора с его претензией
на
исконную древность рода, эпохальность и предопределенность
его деяний. В настоящее время этот памятник августова века
нельзя рассматривать без учета тех реальных корней и воспоминаний
о действительных событиях, которые до середины текущего
столетия еще считались плодом заимствования из греческих
поэтических источников.
Об устойчивости традиции о происхождении Рима свидетельствует
творчество поэтов и риторов. Среди множества пространных
ее пересказов и ярких картинок, изображающих в стихах отдельные
эпизоды,
имеется одно замечательное по художественности исполнения
и богатству содержания произведение, основанное на материалах
антикварного характера, восходящих к Варрону и Веррию Флакку
[106]. Оно принадлежит прославленному опальному поэту Овидию,
литературная
деятельность которого признана блестящей, но легковесной
[107]. Это —
«Фасты». В них описывается религиозный календарь, происхождение
праздников и объясняются сакральные обычаи. То обстоятельство,
что
в поэме говорится о делах религии и культа, обеспечивает
ей в значительной мере достоверность. Ведь римляне строго
и скрупулезно соблюдали все сакральные нормы, хранившиеся
религиозными коллегиями,
возникшими в незапамятные времена. Эти коллегии с глубочайшей
древности вели свою документацию и в устной и в письменной
форме, никогда не утраченную полностью ни в каких перипетиях
римской
истории.
На это обстоятельство было обращено внимание еще В.И. Модестовым
[108], а в наши дни согласие с мнением Модестова выразил
Э. Перуцци [109]. Овидиевы «Фасты» освещают религиозные
и социальные явления не только времени первых царей, но
и доромуловой эпохи.
Важное значение в качестве источника по рассматриваемому
периоду имеет язык римлян. Языковые данные проясняют этногенетические
процессы, культурные и экономические связи Рима, уточняют
временную последовательность некоторых событий, могут служить
подтверждением сообщений античных авторов.
О характере местности, где возник Рим, дает представление
топонимика. Достаточно упомянуть названия холмов Виминала,
Фагутала и участка на Авентине — Лорета. Указание на значение
курий и
одновременно на раннюю ступень синойкизма содержится в названиях
Древних и Новых курий.
|
|
|
---------------------
[106] История римской литературы, т. I. М., I959, с. 446
[107] См.: Тронский И.М. История римской литературы. М., 1951,
с. 422
[108] См.: Модестов В.И. Лекции по истории римской литературы.
Спб, 1888, с. 22 — 23.
[109] Peruzzi E. Origini di Roma, v I. Bologna, 1973, p. 164 — 165.
|
|
| 45 |
Имена персонажей древней истории — Нумы и ряда альбанских
царей и эпонимных героев, как Сикел, — помогают понять проблему
италийского населения.
Лингвистические исследования значительно продвинули наши
знания о глубочайшей древности римской истории. Благодаря
трудам
Э. Перуцци были выявлены разновременные заимствования в
латинском языке из греческого микенской эпохи и периода
Великой греческой колонизации. Было доказано балканское
происхождение некоторых исконных римских религиозных празднеств
и жреческих коллегий.
В результате наблюдений Дж. Девото над различными вариантами
слов одного корня и значения в латинском языке было установлено
появление в составе римлян при доэтрусских царях массы переселенцев
из Южного Лация и из его северных районов.
Источников по истории древнейшего Рима, таким образом,
действительно много. Вместе с тем каждый тип их, взятый
в отдельности,
ие может служить достаточной базой для обоснованных суждений.
Только комплексное использование материалов позволяет говорить
о столь отдаленном времени как о достоверной истории, по
крайней
мере в ее главных чертах, и притом с известной долей полноты.
|
|
| |
|
 |