137
Греки и варвары в Западном Крыму
- 1. Ареал и природные условия......137
- 2. Демографическая ситуация......139
- 3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму.......145
- 4. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму.....174
- 5. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: оценка степени взаимовлияний.....196
1. Ареал и природные условия
Географическое понятие Западный Крым, в отличие от устоявшегося и общеупотребительного Восточный Крым, в археологической литературе употребляется редко. Как правило, выделяются и изолированно рассматриваются два района Западного Крыма — Северо-Западный Крым и Юго-Западный В основе такого деления, скорее всего, лежит отсутствие отчетливо выраженных остатков поселений античного, как, впрочем, и более раннего времени на всем протяжении побережья от Северной косы города Севастополя до Сакско-Евпаторийского района (Раевский. 1968. С. 128; Щеглов. 1978. С. 18) (см. рис. 10.1)
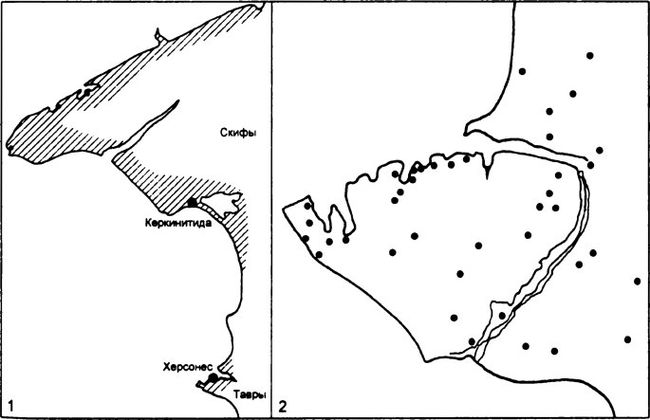
Рис. 10.1 — Карта-схема территории Херсонесского государства конца IV — начала III в. до н. э. (по А. Н. Щеглову); 2 — варварские поселения и могильники в Юго-Западном Крыму первой половины I тыс. до н. э. (по Л. Соловьеву, С. Ф. Стржелецкому, О. Я. Савеле)
139
Правда, в последние годы обследование побережья позволило выявить новые памятники античного времени к югу от Евпатории, самое южное из которых — поселение Ново-Федоровка. Немногочисленные находки, относящиеся также к упомянутой эпохе и происходящие из междуречья Альмы и Качи (Зубарь, Колтухов, Мыц. 1991), служат основанием для утверждения о том, что все это правобережье в IV—III вв. до н. э. было частью Херсонесского государства (Ланцов. 1991). Однако отсутствие четкой системы поселений, такой, с которой мы встречаемся в Северо-Западном Крыму, заставляет относиться к этому предположению с известной долей скепсиса. Во всяком случае, совершенно очевидно, что даже если Херсонес как-то и контролировал эти территории, то значение их в хозяйстве государства, в его политической структуре было совершенно иным, нежели Северо-Западный Крым или Гераклейский полуостров1.
Немалую роль для такого резкого разграничения Северо-Западного и Юго-Западного Крыма играют, конечно, природно-географические условия. Северо-Западный Крым, включающий в себя Тарханкутское плато и северную часть Евпаторийской пологоволнистой равнины, составляет западную часть равнинного степного Крыма, который, в свою очередь, является непосредственным продолжением Северо-Причерноморской низменной равнины (Дзенс-Литовская. 1938; 1951; Подгородецкий. 1979).
Юго-Западный Крым — это район гор и предгорий; таким образом, различия между двумя районами Западного Крыма с точки зрения природной, ландшафтной совершенно очевидны. Между тем если рассматривать
1 Со времени, прошедшего после написания данного раздела, появились новые материалы, позволяющие более полно осветить отдельные вопросы, рассмотренные в исследовании Е. Я. Рогова. К таким вопросам относится проблема реконструкции границ Херсонесского государства рубежа IV-III вв. до н. э. (Ланцов С. Б. О границах территории Херсонесского государства на рубеже IV—III вв. до н. э. // Херсонесский сборник. 2004. Вып. XIII. С. 121-153). Некоторые выводы, предлагаемые вниманию читателя, были в свое время откорректированы или пересмотрены самим Е. Я. Роговым. Например, интерпретация захоронений в подстенном склепе 1012 (Столетие открытия подстенного склепа 1012 в Херсонесе // Stratum plus. 2000. №3 .С. 88-97; Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом // Боспорский феномен. 2002. Ч. 1. С. 26-42), заключения относительно присутствия выходцев из Ольвии в Северо-Западном Крыму в V — первой половине IV в. до н. э. (Ольвиопролиты в Северо-западном Крыму // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Сборник памяти Ю. В. Андреева. СПб., 2000. С. 269-274). По нашему мнению, эти изменения нисколько не уменьшают научного значения исследования Е. Я. Рогова, касающегося наиболее дискуссионных моментов истории Херсонеса Таврического. Выводы исследователя, позволяющие по-новому взглянуть на многие вопросы истории Западного Крыма, не потеряли актуальности до настоящего времени. Поэтому мы сочли возможным издать эту часть работы в авторском варианте, предложенном в 90-е гг. XX в.
139
и сравнивать места расположения греческих апойкий в обоих названных районах, то резких различий в природных условиях и ландшафтах мы не обнаружим.
Понижения между увалами Тарханкутского плато, склоны балок и устьевые части, приморские долины и вся прибрежная зона в интересующую нас эпоху были покрыты густой древесно-кустарниковой растительностью, что делало Тарханкутский полуостров своеобразным лесостепным островом в причерноморских степях, подобно приднепровской Гилее (Щеглов. 1978. С. 25; Подгородецкий. 1979. С. 34).
Географически прибрежная часть Юго-Западного Крыма относится к предгорной провинции горного Крыма. Предгорья — это своеобразное звено, связывающее Крымские горы с равнинами. Полосой от 10 до 40 километров они протянулись от мыса Фиолент до Керченского полуострова. Ландшафтно — это холмистая степь, постепенно переходящая во внешнюю гряду Крымских гор. Но западе степь обрывается к морю высоким береговым клифом, сложенным глинистыми сланцами, в нескольких местах клиф прерывается обширными долинами, по которым выходят к морю реки Бельбек, Альма и Кача. На юге предгорья оканчиваются Гераклейским полуостровом. Со склонов Сапун-горы, Карагачской возвышенности и Каранских высот местность постепенно понижается к морю на запад и северо-запад, образуя обширное каменистое слабохолмистое плато, изрезанное балками. Все балки, за исключением Мраморной, впадают в бухты на северном пониженном побережье Гераклейского полуострова (Бабенчиков. 1941. Л. 2-3).
Растительность предгорий более всего сходна с лесостепной, открытые места имеют хорошо выраженную степную растительность. В древности, в частности, в античное время, значительные массивы предгорий были покрыты древесно-кустарниковой растительностью, реликтовые остатки которой сохранились до наших дней (Ена. 1983. С. 78). По-видимому, скорее следует говорить о природно-ландшафтных различиях не столько тех конкретных мест, где селились эллины, сколько о резких различиях районов, окружающих эти зоны расселения.
2. Демографическая ситуация
К моменту появления первых греческих апойкий на побережье Западного Крыма во второй половине VI в. до н. э. — Керкинитиды и поселения на берегу Карантинной бухты — Крымский полуостров не был безлюдным. Сообщения древних авторов о жителях полуострова для этого раннего времени немногочисленны. По существу, к сообщениям, как-то касающимся Западного Крыма, можно отнести лишь краткое упоминание города Каркинитиды Гекатеем Милетским в передаче Стефана Византийского (Нес. fr. 153,
140
Steph. Byz. s.v. ΚΑΡΚΙΝΙΤΙΣ), имея в виду, что речь идет все же о Крымской Каркинитиде, а не о Дунайской (Куклина. 1985. С. 85, 100; ср.: Дашевская. 1981. С. 228), и, пожалуй, сведения, содержащиеся в скифском логосе Геродота (Her., IV, 20, 99-101, 103). Сообщения обоих авторов неоднократно и весьма разносторонне анализировались в научной литературе (См., например: Доватур, Каллистов, Шишова. 1982. Ком. 221, 222, 577, 600; Столба. 1993. С. 56-61).
Сообщение Гекатея настолько кратко, что могло служить основой для догадок самого разного рода, в частности, и об основании города скифами еще до конца VI в. до н. э. (Романченко. 1896. С. 230-231 ; Орешников. 1892. С. 7). Ближе к истине, надо думать, те исследователи, которые связывают обозначение города как скифского не с обстоятельствами его возникновения, а с расположением его в Скифии (Дашевская. 1970. С. 122). С уверенностью можно говорить л ишь о том, что ко времени составления «Землеописания» Гекатеем ок. 500 г. до н. э. город уже существовал.
Более обстоятельны сведения, сохранившиеся в скифском рассказе Геродота. Они служат основой для реконструкции границ расселения тавров, которые живут в гористой, выступающей в Понт стране южнее линии Керкинитида-Феодосия (Щеглов. 1988. С. 56-57; Столба. 1993. С. 53). «От Таврики выше тавров в области обращенной к восточному морю живут уже скифы» (Her. IV, 100), т. е. севернее тавров остальную часть полуострова занимают скифы.
Судя по сведениям письменных источников, в VI-IV вв. до н. э. на территории Крымского полуострова жили только три народа: эллины, тавры и скифы. Правда, некоторые исследователи, опираясь на легенду, изложенную Геродотом о потомках слепых рабов, произошедших от браков скифя-нок с рабами, допускают существование еще одного народа, произошедшего в результате смешения доскифского и скифского населения (Ольховский. 1982. С. 77; Ольховский, Храпунов. 1990. С. 27; Щеглов. 1988. С. 57). Явный мифологический характер Геродотова сюжета заставляет рассматривать это допущение как весьма шаткое.
Информация о таврах и их хозяйственном укладе, имеющаяся в письменных источниках, очень скудна. Начиная с Геродота, за таврами закрепилась репутация диких воинственных горцев, которые «живут (награбленной) добычей и войной» (Her. IV, 103). По Псевдо-Скимну, тавры ведут кочевую жизнь в горах (Ps. Scymn. Peripl. 831 -832). Эти краткие сведения служат основанием для общих суждений о хозяйстве тавров, которое рассматривается как застойное, находящееся на низком уровне развития (Щеглов. 1981. С. 209; Крис. 1981. С. 54). Основу хозяйства составляет яйлажное скотоводство и примитивное земледелие, а также, как один из видов хозяйственной деятельности, набеги и пиратство (Щеглов. 1988. С. 60). Послед
141
нему виду хозяйственной деятельности тавров придается, по-видимому, неоправданно большое значение. Прямо тавры названы пиратами только у Диодора, и то в числе кавказских народов — гениохов и ахейцев (Diod., XX, 25). Все остальные авторы акцентируют свое внимание на том, что тавры приносят в жертву сбившихся с пути или спасающихся в бухте Символов (Strabo. VII, 4, 2) пришельцев (Mela, II, 11 ) или просто чужеземцев (Schol. Callim. III, 174). Считается, что разбой у тавров еще не был связан с торговлей, а захват пленных не преследовал целей работорговли (Зельин, Трофимова. 1969. С. 209). Наряду с этим, отсутствие сколько-нибудь ясно выраженных материальных следов пиратской деятельности в виде остатков награбленной добычи (посуда, металл и пр.) заставляет усомниться в наличии такой отрасли хозяйства у племен горного и предгорного Крыма (Лесков. 1965. С. 167). Обломки античной керамики VI-V вв. до н. э. на памятниках этого района чрезвычайно редки.
Замкнутый и малодинамичный образ жизни, существование застойных форм хозяйства обусловили, по мнению некоторых исследователей, главную черту этнопсихологии тавров — акоммуникативность, переходящую во враждебность к чужакам (Щеглов. 1988. С. 61). Между тем находки на поселениях и в могильниках предгорного и горного Крыма, прежде всего — металлических изделий, свидетельствуют о том, что связи населения, проживавшего в горном Крыму, со степным Северным Причерноморьем не только существовали, но были весьма активными. Типы мечей, кинжалов, наконечников стрел, деталей конской сбруи, украшений находят полные аналогии в степных комплексах Северного Причерноморья, начиная с VII в. до н. э., а быть может и раньше (Крис. 1981. С. 44-49; Колотухин. 1987. С. 9-17; 1996. С. 35-66). Будем помнить также и то, что, судя по сообщению Геродота (Her., IV, 119), тавры хотя и не вошли в антидариевскую коалицию, однако сохраняли со скифами не враждебные отношения. Надо полагать, что на север, в сторону причерноморских степей это «застойное» общество все же закрытым не было. Насколько оно было закрытым по отношению к крымским эллинам, сказать трудно, но пантикапейское погребение тавра Тихона говорит как будто о том, что закрытость и акоммуникативность тавров проявлялась не везде и не во всем.
Попытки совмещения картины, составленной на основе анализа письменных источников с археологическими реалиями, всякий раз приводят к несовпадениям, различиям и чаще всего к противоречиям буквально во всех вопросах, начиная с расселения племен и вплоть до уже упоминавшейся акоммуникативности тавров. Археологические материалы, полученные за десятилетия исследования памятников степного, горного и предгорного Крыма, оказались богаче и разнообразнее представлений, сложившихся на основе античной литературной традиции.
142
Анализ археологических источников показывает, прежде всего, отсутствие в Крыму культурного единообразия. Скифские (степные кочевнические) памятники появляются в равнинном Крыму не ранее третьей четверти VII в. до н. э. В ранний период, по крайней мере до начала V в. до н. э., количество их невелико, но, судя по тому, что некоторые из них найдены в предгорьях, следует думать, что полуостров в течение VI в. до н. э. был освоен кочевниками полностью (Ольховский. 1982. С. 76).
Увеличение числа скифских степных погребений в равнинной части полуострова происходит в V в. дон. э. и особенно — в IV в. дон. э. Лишь с этого времени можно говорить о локальном крымском варианте скифской культуры (Ольховский. 1978. С. 18). Т. Н. Троицкая еще в 50-х гг. выделила три варианта в культуре крымских скифов: восточнокрымский, центральный и северо-западный (Троицкая. 1951; 1954). Спустя два десятилетия этот вывод был подтвержден В. С. Ольховским, который располагал выборкой памятников, во много раз превосходящей выборку Т. Н. Троицкой. По Ольховскому, крымский локальный вариант скифской культуры делится на четыре зоны: восточнокрымскую, предгорную, северо-западную и северокрымскую (Ольховский. 1978. С. 17). Памятники каждой из этих зон обладают некоторым набором отличительных признаков.
Детальный анализ погребальных сооружений и погребального обряда памятников Крымского полуострова позволил помимо локального варианта скифской степной культуры выделить здесь еще три группы вполне своеобразных памятников: мегалитическую горного Крыма, кизил-кобинскую предгорий и группу памятников равнинного и предгорного Крыма, содержавшую лощеную керамику с резным и гребенчатым орнаментом (Ольховский. 1982. С. 78).
Сопоставление погребального обряда выделенных групп памятников привело к выводу о том, что степные скифские памятники и памятники мегалитические вполне самостоятельны и оригинальны; сходства между ними почти нет. Кизил-кобинские памятники предгорий синкретичны, включают в себя элементы группы II и группы IV. Сходен с кизил-кобинским погребальный обряд четвертой группы, но он содержит в себе и элементы группы I (Ольховский. 1982. С. 73-77).
Попытка этнической идентификации выделенных групп, как это чаще всего и бывает, оказалась безуспешной. Если степные крымские памятники, идентичные памятникам степного Северного Причерноморья, можно считать скифскими в широком и достаточно условном понимании этого этнонима, то какая из трех оставшихся групп соответствовала историческим таврам — неясно.
Как известно, кизил-кобинская археологическая культура была выделена в 20-х гг. Г. А. Бонч-Осмаловским (Бонч-Осмаловский. 1926. С. 91-94).
143
К этой культуре он отнес поселения с лепной лощеной и рельефной керамикой и каменные ящики, т. н. мегалиты, где также была найдена такая керамика. По мнению Г. А. Бонч-Осмаловского, эта культура могла принадлежать ранним таврам. Поскольку никакого иного народа античная литературная традиция в Крымских горах не знала, принадлежность этой культуры ранним таврам казалась естественной и была принята большинством исследователей (Репников. 1927; Дашевская. 1958; Шульц. 1959; Лесков. 1965; Граков. 1971).
Между тем уже на первом этапе изучения кизил-кобинской культуры было замечено несоответствие характеристики тавров письменных источников археологическому контексту, из которого следовало, что племена, оставившие памятники этой культуры, имели развитое хозяйство (Дьяков. 1940. С. 84; Крис. 1971. С. 160-163; Щепинский. 1969. С. 249; 1971. С. 232). Появлялась возможность поиска иного, отличного от тавров, этноса.
По мере накопления материала становилось очевидно, что признаки, характерные для кизил-кобинской культуры, прежде всего чернолощеная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, не ограничиваются только горным и предгорным Крымом, но встречаются и в равнинном Крыму и даже за пределами полуострова (Троицкая. 1957; Щепинский. 1987).
Две археологические культуры и соответственно два этноса — тавров и кизил-кобинцев — выделил в предгорном Крыму А. А. Щепинский (Щепинский. 1987. С. 57-77). И кизил-кобинцы, и тавры жили на одной территории и одновременно, иногда даже памятники их располагались рядом. Таврская культура характеризуется каменными ящиками гор и предгорий, а также поселениями с керамикой, украшенной валиками и налепами. Кизил-кобинская культура представлена поселениями с керамикой, украшенной резным и гребенчатым орнаментом: по А. А. Щепинскому, памятников этой культуры известно около 200. Они подразделяются на городища с естественной или искусственной защитой, крупные земледельческие поселки, деревни, хутора, стоянки, загоны для скота и святилища; погребения этой культуры — подкурганные, совершались в ямах или подбойных могилах с западной ориентацией вытянутых костяков (Щепинский. 1987. С. 63-83). Ареал кизил-кобинской культуры частично совпадает с ареалом таврской, но занимает территорию всего Крыма и выходит за его пределы (Щепинский. 1987. С. 84-94. Рис. 24).
Две археологические культуры и соответственно две этнически различные группы населения — тавров и кизил-кобинцев — в стране горного Крыма выделяет X. И. Крис. Она пришла к заключению, что мегалитические памятники южного берега и Главной гряды Крымских гор принадлежат таврам, область расселения кизил-кобинцев — крымские предгорья, где они оставили поселения и каменные ящики (Крис. 1981. С. 55-56).
144
Обе концепции очень близки и одинаково порождают целый ряд новых вопросов, не разъясняя старых. Новые материалы, добытые в последние годы, полностью опровергают предположения обоих авторов, не оставляя сомнений в том, что выделение двух культур и соответственно двух этносов в предгорном и горном Крыму не обосновано (Колотухин. 1987. С. 6-27).
Нельзя не согласиться с А. Н. Щегловым, который не видит достаточных оснований для выделения в Крыму «третьей» и «четвертой» культур варварского населения. На территории Крымского полуострова фиксируется только северопричерноморская степная культура кочевников и культура памятников кизил-кобинского типа с локальными ее вариантами или хронологическими этапами, этническое содержание этой последней культуры не имеет пока удовлетворительного объяснения (Щеглов. 1988. С. 70). Если принять гипотезу А. Н. Щеглова о соответствии кизил-кобинской культуры двум хозяйственно-культурным типам — горному земледельческо-скотоводческому и степному «скифоидному» кочевому или полукочевому, то это в какой-то мере объясняет присутствие отдельных элементов кизил-кобинской культуры в степных крымских памятниках. К этому только следует добавить, что процесс смешения степной скифской культуры и степного варианта кизил-кобинской культуры начался гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор и, разумеется, ранее того, когда этот процесс оказался зафиксирован античной литературной традицией
Крымский полуостров вообще, а главным образом — его степная часть, представляет собой одну большую контактную зону, где, начиная с VII в. до н. э. интенсивно проходили процессы обмена культурными традициями. Именно поэтому крымские памятники с таким трудом поддаются группировке.
Археологические памятники Северо-Западного Крыма позволяют с большой долей уверенности утверждать, что в VI-V вв. до н. э. оседлого населения здесь не было. Памятники кочевников представлены исключительно погребениями в курганах, и хотя количество исследованных памятников пока невелико, специфические особенности этой группы памятников проступают достаточно отчетливо (Дашевская. 1971. С. 151-155; 1981. С. 218-225; Ольховский. 1982. С. 61-69).
В данный момент менее важно, как и сколько хозяйственно-культурных типов следует выделять на материалах памятников крымских степей, гор и предгорий. Как видно из всего изложенного выше, эти вопросы далеки от своего разрешения. Гораздо важнее иное, а именно — сам факт существования различных в культурном и хозяйственном отношении групп туземного населения в областях расселения эллинов в пределах Западного Крыма: в юго-западной Таврике греческие поселенцы столкнулись с горными полуоседлыми и оседлыми племенами, в то время как в северо-западной — с кочевниками. Несомненно, что специфические особенности туземного
145
населения Таврики не могли не отразиться на процессе колонизации и на взаимоотношениях колонистов с аборигенами.
3. Греки и варвары в Юго-Западном Крыму
3.1. Особенности греческой колонизации Юго-Западного Крыма
Существующие ныне представления о процессе и характере заселения эллинами Юго-Западного Крыма полностью находятся в рамках т. н. дорийской модели колонизации (Щеглов. 1986; 1994; Виноградов, Щеглов. 1990). Суть модели сводится к насильственному внедрению дорийских колонистов на какую-либо территорию, захвату земель, занятых местными жителями, и обязательному подчинению последних с установлением одной из форм зависимости от гражданской общины.1
Спору нет, многочисленные примеры внедрения дорийских гражданских коллективов в среду местных жителей и их взаимоотношения демонстрируют за редким исключением именно такой путь освоения новых территорий (см., например: Виноградов, Щеглов. 1990). Однако при этом следует иметь в виду, что сама схема или модель дорийской колонизации могла возникнуть и возникла исключительно из анализа письменных источников, но на археологическом материале еще ни разу не была продемонстрирована. Не опираясь на конкретный археологический материал, модель, естественно, не учитывает особенностей становления и развития дорийских общин на новых территориях.
С другой стороны, существует опасность и другого рода: модель изначально может задавать направление в осмыслении и интерпретации археологических материалов, которые «подгоняются» под готовую историческую конструкцию, лишь ее иллюстрируя. При этом неизбежно факты оказываются упрощенными, противоречия между ними сглаживаются или не учитываются вовсе.
Добавим к этому также и то, что целый ряд пассажей, содержащихся в письменных источниках и положенных в основу модели, не может быть интерпретирован однозначно, и это естественным образом приводит исследователей к различным выводам (ср.: Фролов. 1981; Свенцицкая. 1967; Сапрыкин. 1986. С. 30-35). Важно при этом подчеркнуть, что все эти сведения
1 О дорийской модели см.: дискуссия на симпозиуме «Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации» // Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. С. 273-291; Щеглов А. Н. 1986. С. 174-176; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 369 сл.; Фролов. 1981. С. 29. Библ.
146
не относятся к деятельности дорийцев в Юго-Западном Крыму и могут привлекаться в качестве аналогий лишь с известными оговорками.
Попытаемся взглянуть на ход колонизационной деятельности эллинов в этом районе Крымского полуострова, не ограничиваясь рамками моделей.
3.2. Проблема основания Херсонеса
Среди современных исследователей до недавнего времени меньше всего сомнений вызывал вопрос о времени основания Херсонеса. Согласно гипотезе А. И. Тюменева, развившейся из замечания немецкого ученого Г. Шнайдервирта, событие это скорей всего могло случиться в 422/421 г. до н. э. (Schneiderwirth. 1887. S. 5; Тюменев. 1938). Предложенная дата получила признание в отечественной и зарубежной историографии, хотя никогда и не подвергалась критике. Между тем, несмотря на всеобщее признание, основание города Херсонеса в последней четверти V в. до н. э. остается все же гипотезой (Щеглов. 1976. С. 13).
Дискуссионным оставался вопрос о существовании на месте дорийского Херсонеса более раннего поселения. Наличие в культурных слоях города материалов более ранних, чем последняя четверть V в. до н. э., заставляло предполагать существование на берегу Карантинной бухты раннего ионийского поселения — фактории или морской станции (Ростовцев. 1918. С. 89; Гриневич. 1927. С. 21), торговой фактории (Блаватский. 1949. С. 145; Жебелев. 1953. С. 77,80) или временной якорной стоянки (Стржелецкий. 1959. С. 68; Зедгенидзе. 1979. С. 30).
Исследования в восточной части Херсонесского городища, проводившиеся в последние десятилетия (Золотарев. 1986; 1986а; 1988), а также ревизия и анализ ранних материалов некрополя Херсонеса (Монахов, Абросимов. 1993) ставят существование раннего поселения на месте дорийского Херсонеса на твердую почву неоспоримых фактов. Археологические материалы более древние, нежели последняя четверть V в. до н. э. инициировали попытку пересмотра и источников исторических, результатом которой явилась гипотеза об основании Херсонеса гераклеотами, делосцами и ионийцами не в последней четверти V в. до н. э., а столетием ранее, точнее в 528/ 527 гг. до н. э. (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36-46; 1999. С. 91-129). В основе гипотезы лежит интерпретация серии остраконов из Херсонеса, датированных авторами временем от конца VI до конца V в. до н. э. ( Виноградов, Золотарев. 1990. С 48-74; Vinogradov, Zolotarev. 1990. C. 85). Поскольку в таврической апойкии на протяжении всего V в. до н. э. «в политической жизни безо всякого перерыва регулярно применялась одна из самых радикальных мер греческой демократии — остракизм», следует считать установленным не только наличие полиса и соответствующих полисных институтов, но и на протяжении всего этого времени демократической фор
147
мы правления. Дело за малым — остается только найти этот полис на территории Херсонесского городища.
Из поля зрения авторов, сосредоточивших основное внимание на разборе эпиграфических, нарративных и литературных источников, как-то само собой выпали источники археологические. Откровенно говоря, весьма поверхностная проработка этого важнейшего и даже, пожалуй, решающего источника в очередной раз свелась к превращению его в иллюстрацию построений, полученных при работе с источником историческим. А напрасно.
Если брать за точку отсчета начало херсонесского полиса 528/527 гг. до н. э., то неизбежно придется искать объяснения целому ряду противоречий. Нет никаких следов строительных остатков существовавшего более столетия полиса, и только в конце V в. до н. э. жители таврической апойкии начинают строить загадочные полуземляночные жилища, коих к настоящему времени открыто тоже не очень много — чуть более десятка (Золотарев. 1998. С. 29-32).
Две-три сотни черепков, относящихся к концу VI — первой половине V в. до н. э. ( часть из них может быть датирована и более поздним временем), несопоставимы с десятками тысяч керамических обломков из синхронных слоев даже таких сравнительно небольших центров, как Керкенитида или Мирмекий, уже не говоря об Ольвии, Пантикапее или Фанагории. Эти несколько сотен обломков, накопившихся за более чем столетний период существования города ( с последней четверти VI в. до н. э. по конец V в. до н. э.) на берегу Карантинной бухты, фиксируют мизерное и скорее всего эпизодическое поступление импортных товаров.
Если отвлечься от цепочки допущений и основанных на них предположений, неизбежных при интерпретации источников исторических, оставаясь при этом на твердой почве археологических реалий, то необходимость сопоставления материалов из Херсонеса с синхронными материалами других памятников в Северном Причерноморье станет очевидной. Самые первые поверхностные прикидки в этом направлении заставляют признать керамический комплекс архаического времени из Херсонеса совершенно необычным. Прежде всего это касается соотношения групп керамики в керамическом комплексе — находки ионийской полосатой керамики «представлены обломками нескольких сотен» фрагментов, а находки амфор — «многими десятками» (Виноградов, Золотарев. 1998. С. 36). На любом синхронном архаическом памятнике соотношение окажется обратным — как известно, доля амфор обычно составляет от 70 до 90%.
Невозможно объяснить полное отсутствие монетных находок этого времени — невероятно, чтобы за все годы исследования Херсонесского городища не было найдено ни одного экземпляра хотя бы иногородних монет (Гилевич. 1968). Правда, справедливости ради следует указать на находки
148
двух ольвийских ассов, которые, впрочем, датируются второй половиной V в. до н. э. и не заполняют имеющуюся лакуну.
Поскольку на протяжении всего пятого столетия безо всякого перерыва регулярно применялся остракизм, непонятно, что произошло с демократией на рубеже V-IV вв. до н. э. Судя по всему, позднее в полисе уже не возникает никаких политических коллизий, разрешение которых требовало бы процедуры остракизма, столь любимой при жизни почти четырех поколений. Более того, даже память об этой традиции совершенно стерлась у жителей города.
Без ответа остается множество вопросов, среди которых на первое место мы должны поставить вопрос о том, почему же новый полис не получил развития в противоположность другим северопричерноморским апойкиям, а так и оставался в зачаточном состоянии на протяжении более столетия. Он не испытывал постоянного и мощного давления со стороны степных варваров, подобно Ольвии или Керкенитиде.
Как бы там ни было, но действительные перемены как в самом Херсонесе, так и во всем Юго-Западном Крыму наступают только в IV в. до н. э.
3.3. Ближняя округа Херсонеса
О первых десятилетиях существования города данных почти нет. Возможно, что уже в первой четверти IV в. до н. э. Херсонес каким-то образом участвует на стороне Гераклеи в войне за Феодосию (Золотарев. 1984. С. 82-92) или, по меньшей мере, служит опорным пунктом гераклеотов на крымском побережье (Сапрыкин. 1986. С. 74,83). Судя по всему, Херсонес в это время занимал ту же территорию, что и более раннее дохерсонесское поселение — в северо-восточной части возвышенности, вытянутой с северо-запада на северо-восток. С юга возвышенность ограничивалась глубокой балкой или существовавшим в древности заливом Карантинной бухты (Бертье-Делагард. 1907. С. 124. Табл. II), а с северо-запада и запада — обширной западиной, занятой некрополем, который в конце IV в. до н. э. был застроен жилыми кварталами. Таким образом, даже с прибытием новых поселенцев в последней четверти V в. до н. э. территория поселения не увеличилась.
К середине IV в. до н. э. город все еще занимал небольшую площадь: разные исследователи оценивают ее по-разному — от 10-11 га (Беляев. 1984. С. 49) до 15 (Стржелецкий. 1959. С. 69) и даже 20 га (Щеглов. 1976. С. 14). Несмотря на разницу в оценках, отметим, что границы города этого времени надежно фиксируются расположением погребений некрополя и местами керамических свалок (Беляев. 1984. Табл.VII; Зедгенидзе. 1979. С. 30-31).
О ранней сельскохозяйственной территории города, а таковая, по-видимому, должна была существовать, сведений нет. Можно лишь предположить, что она находилась скорее всего где-то вблизи города. Попытки рас
149
сматривать так называемый поселок виноделов и остатки могильника, обследованные С. Ф. Стржелецким в верховьях Карантинной бухты (Стржелецкий. 1948а. С. 51) в качестве памятников ранней хоры города (Щеглов. 1986. С. 156; 1981. С. 212). явно неудачны и должны быть оставлены, поскольку весь комплекс материалов, за исключением единственного и, очевидно, случайно попавшего обломка краснофигурного сосуда, датируется эллинистическим временем.
Первые неоспоримые и наиболее ранние следы деятельности по устройству сельскохозяйственной территории фиксируются на Маячном полуострове в 9 км к юго-западу от Херсонесского городища. Это глубоко вдающийся в море трапециевидной формы полуостров, соединяющийся с материком (Гераклейским полуостровом) узким перешейком. Площадь Маячного полуострова в современном виде без учета прошедшей за тысячелетия абразии берега составляет около 380 га. Надо полагать, что в древности его площадь была несколько больше. По данным А. Н. Щеглова, она составляла не менее 470-480 га, которые были поделены на 110 наделов по 4,41 га каждый (Щеглов. 1993. С. 33). На площади полуострова в начале нашего столетия H. М. Печенкиным было зафиксировано около сотни мест, которые он считал развалинами усадеб (Печенкин. 1911; ср.: Стржелецкий. 1961. С. 30-32). Именно Маячный полуостров, размежеванный на наделы, и рассматривается обычно в качестве ранней сельской территории Херсонеса (Стржелецкий. 1961. С. 157; Яйленко, 1982. С. 127 и сл.; Сапрыкин. 1986. С. 61; Щеглов. 1986. С. 158-159).
От обрывистого морского побережья до верховий Казачьей бухты полуостров перегораживают две крепостные стены, расположенные почти параллельно друг другу. Наружная стена, обращенная в сторону Гераклейского полуострова, толщиной 2,75 м была укреплен 10-ю оборонительными башнями; внутренняя, более тонкая, толщиной 1,75 м, имела 12 башен, обращенных в сторону Маячного полуострова (Стржелецкий. 1959. С. 72). По заключению такого знатока херсонесской фортификации, каким был Л. Бертье-Делагард, кладка стен выполнена из некрупного штучного камня без раствора, «подобная древняя кладка нигде в Херсонесе не зафиксирована» (Бертье-Делагард. 1907. С. 195).
Оборонительные стены отстоят друг от друга на расстоянии 200-210 м, пространство, заключенное между ними (площадью около 18 га), было занято жилой застройкой, которая, однако, судя по шурфовке H. М. Печенкина, отсутствовала в более возвышенной западной части (Печенкин. 1911. Л.9). Въезд на поселение был фланкирован оборонительными башнями. У одной из башен — первой со стороны моря — во время работ в 1890 г. К. К. Косцюшко-Валюжиничем был открыт небольшой храмик, посвященный Дионису (Стржелецкий. 19486. С. 97-106).
150
Как размежевка площади Маячного полуострова, так и закладка крепостных стен были осуществлены единовременно, поскольку дороги, разделяющие наделы, непосредственно связаны с воротами внутренней крепостной стены (Стржелецкий. 1961. С. 30). Таким образом, и наделы, и укрепление на перешейке составляли единую пространственную и строительную структуру (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317; Щеглов. 1993. С. 11).
Уже неоднократно отмечалось, что среди материалов Гераклейского полуострова наиболее ранняя группа связана с Маячным полуостровом (Стржелецкий. 1961; Щеглов. 1986. С. 160; 1981. С. 213). Анализ всей совокупности датирующих находок с территории Гераклейского полуострова, включая и материалы Маячного, предпринятый недавно Е. Я. Туровским, однозначно подтверждает эти наблюдения (Туровский. 1995). Этим автором отмечается, что многочисленные фрагменты чернолаковых сосудов (отдельные экземпляры датируются еще первой четвертью IV в. до н. э.) составляют специфику памятников Маячного полуострова. Обломки чернолаковых сосудов второй и третьей четвертей IV в. до н. э. составляют уже массовый керамический материал. На остальной территории Гераклейского полуострова лишь единичные фрагменты чернолаковых сосудов могут быть датированы временем не ранее середины IV в. до н. э.; основной массив обломков сосудов этой категории датируется не раньше последней четверти IV в. до н. э. — первой трети III в. до н. э.
Абсолютно адекватно эта картина отражена и в других категориях датирующих находок. Так, гераклейские клейма 2 и 3 групп, синопские клейма 1 и 2 групп, фасосские 1 группы встречены только на усадьбах Маячного полуострова, в то время как на остальной территории Гераклейского полуострова ни одного амфорного синопского клейма на ручках 1 и 2 групп не известно, фасосские клейма встречаются только 3 и 4 групп. И это при том, что усадьбы Гераклейского полуострова изучены намного лучше. Целый ряд типов ранних амфор — хиосские колпачковые, гераклейские, синопские, фасосские биконические, херсонесские типа 1 -А-1 не встречаются на усадьбах остальной территории Гераклейского полуострова, а известны только с территории Маячного.
Все это надежно обосновывает дату проведения работ по строительству укрепления на перешейке и размежевке наделов на Маячном полуострове — вторая четверть IV в. до н. э., возможно даже говорить о начале второй четверти IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317). Сравнительный анализ материала приводит к выводу, что усадьбы на Маячном полуострове возникают на 40-50 лет раньше, чем усадьбы на остальной территории Гераклейского полуострова (Туровский. 1995. С. 80).
Место укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точно указано Страбоном (Strabo., VII,4,2), который называет его Старым Хер-
151
сонесом, т. е. это не рядовое поселение, а именно город — старый, древний город. Название, сохранившееся в пассаже географа, прочно вошло в археологическую. литературу — Старый, или Страбонов Херсонес. Если географические сведения относительно укрепления на перешейке Маячного полуострова довольно точны и ясно его название, то все, что касается назначения поселения, его статуса, оставляет простор для самых разных предположений.
Исходя из того, что двойная линия крепостных стен защищала наделы, расположенные на Маячном полуострове, укрепление рассматривается как убежище для владельцев клеров на случай опасности (Сапрыкин. 1986. С. 63; Жеребцов. 1985). Одной из безымянных малых крепостей Херсонеса, упомянутых в херсонесской присяге (TEIXN), считал Страбонов Херсонес Э. Р. Штерн (Штерн. 1908. С. 40), против чего резонно и аргументированно возражал A. Л. Бертье-Делагард (Бертье-Делагард. 1907. С. 190). После работ 1910-1911 гг. H. М. Печенкин пришел к заключению, что Страбонов Херсонес — это военно-сельскохозяйственное поселение херсонесцев (Печенкин. 1911. Л. 15). Эту точку зрения в последнее время развивает А. Н. Щеглов (Щеглов. 1986. С. 158; 1984. С. 54-55). Страбонов Херсонес предлагается трактовать как первое военно-хозяйственное поселение херсонесцев, форпост, выдвинутый на западную оконечность Гераклейского полуострова с целью приобретения стратегической позиции для захвата всего Гераклейского полуострова, что, по мнению авторов, и произошло около середины IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 318,320 и сл.). Что касается даты захвата полуострова, то, как мы видели выше, она не находит опоры в массовом керамическом материале. Напомним еще раз, что укрепление на перешейке Маячного полуострова не просто безымянная крепостца, а совершенно определенно город, называемый Страбоном Херсонесом, хоть и лежащий в развалинах, а потому нет необходимости ставить его в один ряд с безымянными укреплениями. Ни с одним из них, хорошо известных в Северо-Западном Крыму и отождествляемых с TEIXN херсонесской присяги, у этого укрепления нет признаков типологического сходства. Это единственное, уникальное укрепление, выпадающее из ряда стандартизованных укрепленных поселений херсонесской хоры.
Теперь о стратегической позиции. Как на планах, так и на местности хорошо видно, что основное назначение укрепления на перешейке — это не только защита Маячного полуострова, но, главным образом, того пространства, которое заключено между оборонительными стенами (Гайдукевич. 1949а. С. 142 и сл.). Трудно назвать стратегически выгодной для контроля за всем Гераклейским полуостровом позицию, если он располагается в самом западном, наиболее удаленном углу Гераклейского полуострова, откуда невозможно ни контролировать потенциального неприятеля, ни воспре
152
пятствовать его передвижениям по изрезанному глубокими балками плоскогорью. Совсем не случайно, видимо, при сплошной размежевке Гераклейского полуострова в последней четверти IV в. до н. э. был избран совершенно иной способ защиты территории — строительство укрепленных усадеб, а не выдвижение форпостов.
Нельзя не присоединиться к замечанию А. Н. Щеглова и Ю. Г. Виноградова по поводу существующих точек зрения на характер и назначение укрепления на Маячном полуострове: ни одна из них «не в состоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить ни необходимости организации специально защищенной хоры Херсонеса на значительном удалении от города, ни смысла строительства мощного укрепления в глубине (! — E. Р.) Гераклейского полуострова (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 317).
Действительно, устройство хоры города на таком от него удалении — случай в античной практике беспрецедентный. Если даже исходить из соображения о стремлении надежно защитить укреплением поля граждан от враждебных варваров (Щеглов. 1986. С. 158), то наиболее уязвимым и беззащитным остается основной путь доставки продовольствия в город — девятикилометровая, ничем не защищенная дорога из Страбонова Херсонеса в Херсонес. Несомненно, что для того, чтобы пойти на выделение горожанам участков земли на таком удалении от города, нужны были совершенно необычные, веские и серьезные причины. Между тем даже такая важная причина, как боязнь соседних варваров, и та, как мы видели, критики не выдерживает.
Имеется и целый ряд других обстоятельств и противоречий. Прежде всего отметим достаточно продолжительный, а в рамках насыщенного событиями/ IV в. до н. э. и просто большой хронологический разрыв между возникновением наделов, укрепления на Маячном полуострове и началом размежевки и строительством усадеб на Гераклейском полуострове. Эти события отделены друг от друга почти половиной столетия. Уже само по себе это не позволяет их ставить в зависимость одно от другого, тем более рассматривать как последовательные элементы некоего грандиозного плана по захвату Гераклейского полуострова (ср.: Виноградов, Щеглов. 1990. С. 320).
Заслуживает внимательного рассмотрения и сама возможность строительства херсонеситами укрепления на Маячном полуострове. Выше уже приводилось заключение A. Л. Бертье-Делагарда о древности кладок Маячного укрепления, не имеющих аналогов в самом Херсонесе. И хотя подобные кладки в городе как будто имеются (Щеглов. 1970. С. 173 и сл.), вопрос о наличии в Херсонесе оборонительных стен однозначно не решается. Отдельные фрагменты кладок, интерпретированные как остатки древнейшей оборонительной стены города, не только не указывают на единую оборонительную систему, но и не имеют твердых хронологических привязок. Таким
153
образом, вопрос о наличии в начале IV в. до н. э. монументальных оборонительных сооружений в Херсонесе остается открытым.
Если и далее продолжить этот ряд сопоставлений, то следует обратить внимание на площади, занимаемые Херсонесом и Маячным укреплением. Площадь Страбонова Херсонеса, т. е. то, что было заключено между двумя оборонительными стенами, составляла не менее 18 га (Щеглов. 1984. С. 54). Даже учитывая, что не все пространство было занято жилой застройкой, то и в этом случае площадь укрепления на Маячном полуострове вполне сопоставима с размерами самого Херсонеса первой половины IV в. до н. э.
Непросто понять, каким образом крошечный даже по меркам того времени полис, с явно ограниченными людскими ресурсами, мало заботясь о безопасности и благополучии собственного поселения, решился на возведение монументального укрепленного поселения городского типа на значительном от города расстоянии.
Уже обращалось внимание (Щеглов. 1975. С. 135; 1986. С. 157), что месторасположение Страбонова Херсонеса с редкой последовательностью сочетает в себе все необходимые требования к географической ситуации при выборе места для основания новой колонии: полуостровное положение, узкий перешеек, который удобно перегородить стеной, гавань и наличие плодородных земель. Что касается последнего условия, то заметим: именно Маячный полуостров отличается наиболее плодородными землями по сравнению со всем Гераклейским плато (Бабенчиков. 1941).
Вряд ли можно что-либо существенное возразить против того, что все признаки поселения городского типа у Страбонова Херсонеса выражены достаточно отчетливо. Надо полагать, что именно это обстоятельство и заставляло исследователей, начиная с К. К. Косцюшко-Валюжинича, считать развалины на перешейке Маячного полуострова остатками города (Косцюшко-Валюжинич. 1891. С. 61; Бертье-Делагард. 1907.С. 177-201; Стржелецкий. 1959. С. 71; Щеглов. 1975. С. 137). Любопытно, но только такая трактовка этого поселения наилучшим образом объясняет многочисленные противоречия. Быть может, настало время вернуться к идее А. Л. Бертье-Делагарда об основании Херсонеса первоначально на перешейке Маячного полуострова (Бертье-Делагард. 1886. С. 269-270; 1907. С. 180 сл.) и переносе его через несколько десятилетий на хорошо обжитое, как это теперь известно, место на берегу Карантинной бухты (Бертье-Делагард. 1907. С. 200).1
1 А. А. Бертье-Делагард относил это событие к 115-110 гг. до н. э. (Бертье-Делагард. 1907. С. 200). Однако если такое событие и имело место, то скорее всего его следует относить ко времени вскоре после середины IV в. до н. э. Многочисленные примеры переноса вновь основанных колоний были приведены недавно Вонсович (Вонсович. 1994. С. 28-30).
154
Все еще актуальным остается и наблюдение, что в полном смысле Херсонесом, т. е. полуостровом, является именно Маячный полуостров, в то время как город на берегу Карантинной бухты располагается отнюдь не на полуострове (Бертье-Делагард. 1907. С. 190).
3.4. Греко-варварские отношения в Юго-Западном Крыму в V-IV вв. до н. э.
Между тем, как бы мы ни рассматривали возникновение Херсонеса в Юго-Западной Таврике — сразу у Карантинной бухты или сначала на перешейке Маячного полуострова — ясно, что не это определяет специфику колонизационного процесса района. Согласно дорийской модели колонизации, особенность ее лежит в области отношений с местными жителями: как и каким путем проходило внедрение и утверждение новых поселенцев. Существуют ли какие-либо данные на этот счет?
Еще до начала обустройства хоры города на Гераклейском полуострове, по гребню Сапун-горы, а также в Инкерманской и Балаклавской долинах возникает целая сеть варварских поселений, как бы окаймлявших Гераклейский полуостров со стороны гор (Савеля. 1974. С. 238; 1975. С. 100-102). Судя по импортной керамике, этот процесс начинается не ранее второй четверти IV в. до н. э. (Савеля. 1979. С. 172-179). Вполне естественным было связать этот процесс появления варварских поселений по кромке Гераклейского полуострова с какими-то мероприятиями херсонеситов по вытеснению варварского населения с самого Гераклейского полуострова (Савеля. 1975. С. 101; Щеглов. 1981. С. 215; 1986. С. 162).
Действительно, на Гераклейском полуострове зафиксировано более десятка поселений кизил-кобинской культуры (Стржелецкий. 1959. С. 66; Савеля. 1979. С. 171; Щеглов. 1981. С. 213), два из них существовали непосредственно на Маячном полуострове (рис. 10.2). Однако до сих пор неясно время прекращения жизни этих поселений, поскольку надежно датированных греческой керамикой комплексов на них не встречено (Савеля. 1979. С. 171). Остается в силе дилемма, намеченная в свое время О. Я. Савелей, — либо поселения исчезают в результате прямого давления общины херсонеситов, либо варварское население Гераклейского полуострова резко сократилось незадолго до основания дорийского Херсонеса (Савеля. 1979. С. 171 - 172). В последнем случае это совпадает с прекращением существования в V в. до н. э. большинства поселений горного и предгорного Крыма и угасанием традиции хоронить умерших в каменных «мегалитах» (Крис. 1981. С. 56; 1989. С. 29 и сл.). И хотя веских аргументов в пользу той или иной альтернативы не высказано, обратить внимание на два косвенных замечания все же следует.
155
Сравнение лепной керамики кизил-кобинских поселений и керамики варварских поселений, возникших в IV в. до н. э. по гребню Сапун-горы, склонам Байдарской и Инкерманской долин, демонстрирует известную степень различия, а именно: в составе керамического комплекса поселений периферии Гераклейского полуострова, в Байдарской и Инкерманской долинах заметную долю наряду с керамикой, близкой к кизил-кобинской, составляет керамика степных типов, т. е. скифская. Это означает, что население поселков было смешанным, гетерогенным (Савеля. 1979. С. 173), в отличие от того, которое проживало на Гераклейском полуострове в более раннее время. Появление поселений со смешанной скифо-кизил-кобинской керамикой фиксируется в IV в. до н. э. не только по кромке Гераклейского полуострова, они открыты и на северной стороне Севастопольской бухты, а также вплоть до низовьев реки Бельбек (Савеля. 1975. С. 101). Подобные поселения появляются в это время и по склонам внешней гряды Крымских гор (Храпунов, Власов. 1994. С. 251 и сл.), в Восточном Крыму в районе Феодосии (Кругликова. 1975. С. 72-73). Таким образом, появление варварских поселений можно рассматривать и со стороны процессов, протекавших в среде туземных племен горного и предгорного Крыма, вне связи с деятельностью конкретного греческого полиса.
Между тем факт нахождения туземных поселений на границах Гераклейского полуострова все чаще становится археологической иллюстрацией агрессивной политики дорийских колонистов в Юго-Западном Крыму (Щеглов. 1986; Виноградов, Щеглов. 1990; Сапрыкин. 1986). Более того, население этих поселков считается эллинизированным зависимым или полузависимым, составлявшим часть структуры аграрной территории Херсонеса (Савеля. 1975. С. 102; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 319-320; Сапрыкин. 1986. С. 106). Как же обосновывается столь важное заключение?
Первооткрыватель и исследователь этих поселений О. Я. Савеля, первым сформулировавший тезис о зависимом характере поселений, аргументировал его так: «...размещение поселений свидетельствует об элементе принудительности в выборе мест для них, хотя некоторые экологические принципы расположения указанных поселений и соответствуют принципам выбора местоположения для кизил-кобинских и позднескифских поселений в Юго-Западном Крыму» (Савеля. 1975. С. 101; 1979. С. 172). Между тем совсем не очевидно, что при отсутствии какой-либо зависимости местоположение этих поселений было бы иным. Сомнения в доказательности аргумента явно не напрасны.
Подкрепление высказанного предположения находят в факте существования в Балаклавской долине типичных для хоры Херсонеса укрепленных сооружений. Однако господствующее над долиной положение этих укреплений может быть истолковано и как охрана этими укреплениями границ
156
хоры города от возможных варварских вторжений. Наконец, еще один аргумент, который приводится для обоснования зависимости варваров, проживавших по кромке Гераклейского полуострова (Щеглов. 1986. С. 163). Речь идет о заслугах Диофанта перед Херсонесом (IOSPE, 1,352), в числе которых, согласно переводу В. В. Латышева, было подчинение окрестных тавров. Д. Пиппиди предложил исправление, меняющее смысл текста, — Диофантом были возвращены Херсонесу тавры-паройки (Pippidi. 1959. Р. 91, 93). Это небольшое исправление оказывается весьма важным, поскольку в случае его принятия оно прямо указывает на наличие у херсонеситов зависимого населения. Не вдаваясь в тонкости перевода, заметим, что все варварские поселения, о которых шла речь выше и с которыми связываются зависимые тавры-паройки, гибнут еще в конце первой трети III в. до н. э. одновременно с запустением Гераклейского полуострова и более уже не восстанавливаются. Даже если считать, что в декрете в честь Диофанта и упоминаются тавры-паройки, то надо полагать, совсем не те, что жили на поселениях по кромке Гераклейского полуострова столетием раньше, поскольку ко времени Диофанта их давно не существовало.
Таким образом, вряд ли можно сомневаться в декларативном характере утверждения о зависимости окрестных варваров от херсонесской общины; по крайней мере, очевидно, что аргументы, в основу которых положены археологические материалы, не свидетельствуют однозначно о существовании такой зависимости.
Наряду с этим не следует, по-видимому, отвергать саму принципиальную возможность развития отношений херсонеситов с окружающими варварами в этом направлении, но для ее обоснования нужно искать другие, более серьезные аргументы, имея в виду также и то, что складывание подобных отношений в Херсонесе могло иметь место только в весьма ограниченный временной промежуток — вторая половина IV — первая треть III в. до н. э. и что завершения этот процесс не мог получить, поскольку был прерван известными событиями в конце первой трети III в. до н. э.
Если имеющиеся в нашем распоряжении источники не позволяют проследить отношения дорийских колонистов с местным населением, возможно ли в этом случае говорить об особой дорийской модели греческой колонизации Юго-Западного Крыма? Думается, что да, и материалов, на которые, утверждая это, можно опереться, все-таки достаточно. Сопоставление систем организации сельских территорий городов Боспора, Ольвии и Херсонеса не оставляет сомнений в резком своеобразии последнего. Своеобразие обустройства ближней хоры Херсонеса выражается в строгой сетке примерно равных по своей площади наделов, отделенных друг от друг магистральными дорогами, проложенными под прямым углом через всю площадь размежевки, в единстве строительных приемов и методов, а также в высокой
157
степени стандартизации. Все эти признаки прослеживаются не только на ближней хоре на Гераклейском полуострове, но и в самом городе, распланированном в соответствии с принципами Гипподамовой системы.
Все основные компоненты системы организации ближней хоры города были применены с поправкой на своеобразие района и в процессе обустройства сельской территории в Северо-Западном Крыму. Именно в обустройстве, в строго регламентированной организации собственного местообитания, собственного жизненного пространства и проявляются своеобразные отличительные черты дорийской модели колонизации, именно это отличает единственный в Северном Причерноморье дорийский полис Херсонес от всех остальных греческих апойкий этого региона.
Что же касается способов внедрения дорийцев на новые территории и тем более отношений зависимости местных племен от греческих общин, в данном случае от общины херсонеситов, то средствами археологии эти вопросы, относящиеся к сфере социальных отношений, решить чрезвычайно трудно и едва ли вообще возможно.
3.5. Варвары и Херсонес: оценка степени взаимовлияний
Проблему взаимодействия херсонеситов с варварами Юго-Западного Крыма, а с образованием Херсонесского государства и всего Крымского полуострова, нельзя назвать новой. Давно и устойчиво она привлекает внимание исследователей Херсонеса. Эпиграфические документы, найденные в процессе раскопок города, подкрепляемые сведениями античной литературной традиции, рисуют сложную картину отношений Херсонеса и местных варваров уже после образования Малой Скифии в Крыму — эти сведения относятся к III—I вв. до н. э. Что же касается более раннего времени, то здесь единственными реальными показателями отношений и связей жителей города и его варварского окружения, в отсутствие эпиграфических и литературных источников, остаются только данные археологии.
Речь прежде всего должна идти о находках импортных вещей на варварских поселениях Юго-Западного Крыма, которые, скорее всего, в силу географической близости, могли попасть туда через Херсонес, и наоборот, анализ варварских вещей, найденных на территории Херсонесского городища, а также традиций, которые не могут быть объяснены и интерпретированы в рамках греческого культурного поля.
Мнимая простота задачи осложняется полным или почти полным отсутствием импортных античных вещей, по крайней мере, до начала IV в. до н. э. в горном Крыму, что уже отмечалось ранее. Обломки импортных сосудов VI-V вв. до н. э. в Юго-Западном Крыму единичны (Щеглов. 1981. С. 211), можно предположить, что они отражают какие-то эпизодические вялые кон-
158
контакты жителей раннего поселения на месте будущего Херсонеса с туземными племенами. Примечательно, что и на поселениях и в могильниках горного и предгорного Крыма ранний античный импорт полностью отсутствует. Картина постепенно меняется только в IV в. до н. э.1
Судя по клеймам и обломкам амфор, уже в первой половине столетия в горный Крым начинает поступать в небольших количествах вино. Объем его поставок не идет ни в какое сравнение с теми объемами, какие направлялись в Скифию, однако центры-экспортеры представлены здесь все те же: Гераклея, Хиос, Фасос, Менде, Синопа, а после середины IV в. до н. э. и Херсонес. Иные категории импорта античной посуды встречаются значительно реже и только после середины IV в. до н. э. Этим, пожалуй, и ограничивается весь скудный репертуар импортных изделий, встречающихся на ближней к Херсонесу территории, заселенной варварами. Складывается впечатление, что последние медленно и с большим трудом втягивались в орбиту греко-варварских взаимоотношений.
Однако, как уже указывалось, у этой проблемы есть и вторая сторона — находки варварского облика на площади самого Херсонесского городища. К сожалению, с давних пор, точнее, начиная с 30-х гг., анализ материальных находок такого рода постоянно подменялся бесплодными попытками этнической атрибуции этих находок.
3.6. Варварские влияния в культуре античного Херсонеса
Находки лепной керамики и каменных орудий в большом количестве, как отмечал Г. Д. Белов, встречаются «в самой нижней части культурного слоя, лежавшего непосредственно на материковой скале» при раскопках 1935-1936 гг. на севере Херсонесского городища (Белов. 1948. С. 32). Это обстоятельство, а также интерпретация скорченных захоронений северного участка некрополя как принадлежавших таврам легли в основу утверждения о том, что Херсонес был основан на месте существовавшего до него таврского поселения, точнее, что «основание Херсонеса греками было по существу присоединением их к уже существовавшему туземному поселению» (Белов. 1948. С. 33). Этим утверждением Херсонес вводился в круг северопричерноморских полисов, основанных на местах туземных поселений в строгом соответствии с эмпориальной теорией, сформулированной В. Д. Блаватским (Блаватский. 1954. С. 7 и сл.).
1 Сенаторов С. Н. Каталог таврских памятников IV—III вв. до н. э. и греческого керамического импорта VI—II вв. до н. э. в горном и предгорном Крыму. (Рукопись хранится у автора). С. Н.Сенаторов любезно ознакомил меня со своей работой, за что выражаю ему искреннюю признательность.
159
Последующая ревизия лепной керамики из раскопок Херсонеса показала, что, во-первых, количество ее, вопреки утверждениям, весьма невелико и, во-вторых, что она датируется временем не ранее основания Херсонеса (Савеля. 1970). Заметим, что в этих работах речь шла о лощеной керамике с гребенчатым орнаментом второго позднего типа, выделенного О. Д. Дашевской (Дашевская. 1963. С. 205 и сл.), которая безусловно связывается с культурой племен горного Крыма. Более ранней кизил-кобинской керамики с резным орнаментом в Херсонесе известно не было.
Лишь сравнительно недавно в процессе исследования северо-восточной части Херсонесского городища при разборке культурного слоя конца VI — первой половины V в. до н. э. были найдены обломки лепных чернолощеных кубков, украшенных орнаментом первого типа (Сенаторов. 1988. С. 100), который известен на лепной посуде VI в. до н. э. из других греческих городов (Кастанаян. 1981. С. 12-19; Марченко. 1988а. С. 87-88). Довольно высокий процент лепной керамики — около 11,7% от общего числа находок позволил поставить вопрос о наличии местных этнических элементов в составе населения древнейшего греческого поселения на берегу Карантинной бухты (Виноградов, Золотарев. 1990. С. 56). Как бы там ни было, но несомненно, что в это раннее время община эллинов на берегу Карантинной бухты так же, как и большая часть других северопричерноморских эллинских общин, не была закрытой по отношению к местному варварскому населению.
Известно, что памятники степных скифов проникают в междуречье Альмы и Качи еще в конце VI — V в. до н. э. (Ольховский. 1982. С. 76). Однако обломки посуды степных типов появляются в Херсонесе только в первой половине IV в. до н. э. Редко, но все же встречаются обломки подобной посуды и в более позднее время при раскопках самого Херсонесского городища, а также в редких случаях они входили в состав погребального инвентаря.1 Однако в целом количество обломков как сосудов чернолощеных с гребенчатым орнаментом, так и посуды степного скифского облика чрезвычайно мало по отношению ко всем остальным категориям керамических сосудов. Подчеркнем особо, что в IV в. до н. э. лепная посуда представлена не только чернолощеными сосудами, но и образцами посуды скифского облика, точно так же, как и на варварских поселениях вблизи Херсонеса.
Теоретически можно допустить, что варварский компонент был выше на Гераклейском полуострове, где варвары могли быть заняты обработкой наделов граждан и где в керамическом комплексе это должно было найти более четкое отражение. Однако и здесь керамический комплекс оказывается адекватным городскому. Судя по данным раскопок, особенно широко прово
1 Нам известны только 2 могилы, в состав погребального инвентаря которых входили лепные сосуды — 2348 и 7/1936, оба сосуда скифского степного типа.
160
дившихся в последние годы, лепная керамика составляет вместе с кухонной всего около 4%,1 а в действительности, учитывая, что она считалась вместе с кухонной, процент ее еще ниже. Для сопоставления приведем данные по керамическому комплексу зданий У7 на хоре Херсонеса в Северо-Западном Крыму этого же времени. Здесь лепная керамика в керамическом комплексе составляет от 40 до 52%, на сельских поселениях хоры Ольвии — от 20 до 40% без учета амфор.2
Если же сравнивать долю лепной керамики в керамическом комплексе Херсонеса, Ольвии и Березани (в двух последних она составляет от 4 до 14% без учета амфор), то становится совершенно ясно, что как в Херсонесе, так и на его ближайшей округе доля лепной керамики была столь невелика, что вряд ли может рассматриваться как серьезное свидетельство наличия в составе населения города сколько-нибудь существенного варварского компонента.
3.7. Варварские компоненты в некрополе Херсонеса
Наше заключение резко контрастирует с все еще бытующими представлениями о присутствии в среде городского населения достаточно представительной прослойки варварского населения. В значительной степени эти представления опираются на материалы северного участка Херсонесского некрополя. Как отмечалось выше, Г. Д. Белов — автор раскопок этого участка — относил скорченные захоронения, открытые здесь, к погребениям тавров, а вытянутые — к погребениям греков и считал, что «местное население... пользовалось в начальную пору существования города равноправным положением», поскольку оба вида погребений находились на одном кладбище (Белов. 1938. С. 192; 1981. С. 178). На первый взгляд, вывод абсолютно логичен и единственно возможен, если исходить из указанных посылок, поскольку никаких данных для иной интерпретации различного положения костяков (скажем, об имущественном или социальном неравенстве) материалы некрополя не дают.
Варварскими, но, в отличие от Г. Д. Белова, не таврскими, а скифскими предлагала считать скорченные костяки С. И. Капошина (Капошина. 1941. С. 172). Однако с нею не согласился автор раскопок некрополя (Белов. 1948. С. 32. Примеч. 1 ), а вместе с ним и большинство исследователей (Тюменев. 1949; Пятышева. 1949; Шульц. 1959), которые вслед за Г. Д. Беловым считали скорченные погребения северного участка Херсонесского нек
1 Данные взяты из отчетов Гераклейской экспедиции Херсонесского заповедника, хранящихся в архиве ИИМК РАН.
2 Данные взяты из отчетов Тарханкутской и Нижнебугской экспедиций ИИМК РАН, хранящихся в архиве ИИМК РАН.
161
рополя таврскими. С. Ф. Стржелецкий, проводивший работы на некрополе в 1945 г., пришел к заключению, что весь этот участок является таврским (Стржелецкий. 1948. С. 95).
В противоположность этой точке зрения получила распространение и иная, впервые высказанная В. В. Лапиным (Лапин. 1966. С. 212 и сл.) и поддержанная В. И. Кадеевым (Кадеев. 1973. С. 108 и сл.), который выступил с критикой таврской принадлежности скорченных погребений. Они попытались интерпретировать эту группу захоронений как захоронения греков, что нашло поддержку со стороны некоторых ученых (Козуб. 1974. С. 21 ; Сапрыкин. 1986. С. 65).
Попытку перенести решение проблемы в социальную плоскость предпринял В. Д. Блаватский, который считал скорченные захоронения погребениями рабов, правда, тавров (Блаватский. 1953. С. 163), Близкую позицию в последние годы занимает В. М. Зубарь. Судя по всему, придя к выводу о невозможности однозначной атрибуции захоронений северного участка некрополя, этот исследователь считает, что скорченность после смерти является показателем зависимости человека при жизни, и склоняется к мысли, что погребенные в таком положении были домашними рабами и хоронились вместе со своими хозяевами (Зубарь. 1988. С. 52-54).
Не останавливаясь подробно на критическом разборе всех изложенных выше позиций, трудно все же удержаться от одного замечания по поводу последней. Если принять эту трактовку, то окажется, что во всем Северном Причерноморье домашние рабы были исключительно в Херсонесе. А поскольку, по заключению автора, скорченные захоронения рабов сопровождают вытянутые захоронения хозяев, то, надо полагать, наличие в доме домашних рабов автоматически должно было определять место захоронения их хозяев, и именно на северном городском кладбище.
Подводя итог краткой истории исследования вопроса о скорченных захоронениях северного участка Херсонесского некрополя, необходимо констатировать следующее: решение его с самого начала получило совершенно неоправданный крен в сторону выяснения этноса погребенных. Споры об этносе погребенных как в вытянутом, так и в скорченном положении все больше приобретают схоластический характер, напоминая спор Остапа Бендера с ксендзами в известном романе И. Ильфа и Е. Петрова, что со всей очевидностью свидетельствует, что в такой постановке вопроса и в рамках тех знаний, которыми мы располагаем, проблема решения не имеет.
Наше заключение основывается также и на том, что все высказанные по этой проблеме точки зрения опираются на одну и ту же сумму фактов, причем без детальной и глубокой их проработки. Чтобы приблизиться к пониманию характера северного участка некрополя Херсонеса в создавшейся ситуации, необходимо прежде всего вернуться к анализу самого исходного
162
материала — погребений и сопровождающего их инвентаря, сопоставить его со всеми участками городского некрополя этого времени, устраняя при этом наметившуюся тенденцию, отмеченную А. А. Зедгенидзе и О. Я. Савелей, о формировании представлений о всем городском некрополе на материалах лишь одного из участков (Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 191).
Как известно, массовые захоронения на северном берегу Херсонесского городища были обнаружены Г. Д. Беловым в 1935-1936 гг. в процессе исследования эллинистических и средневековых кварталов города. Отдельные находки, связанные с некрополем, а также и сами погребения попадались в этом районе и ранее (IOSPE, I2, 463; Белов. 1972).
Работы Г. Д. Белова и С. Ф. Стржелецкого в основном выявили границы участка с захоронениями: погребения располагались к западу от VIII поперечной улицы, наиболее высокая концентрация их отмечалась между VIII и X поперечными улицами. Наряду с этим отмечается, что далеко к ЮЗ погребения не распространяются (Белов, Стржелецкий. 1953. С. 33). В последней своей работе по северному участку Г. Д. Белов оперировал массивом из 160 погребений, найденных в этом районе (Белов. 1981. С. 164), однако в публикациях и отчетах содержатся сведения лишь о 140 погребениях, которые обычно и привлекаются для характеристики участка, вероятно, какая-то часть могил, которые учитывались Г. Д. Беловым, остается недоступной.
В отличие от других участков Херсонесского некрополя, на северном берегу зафиксированы только простые грунтовые ямы для совершения погребений, очень редко борта ям облицовывались камнем. Ямы, как правило, впускались в насыпной культурный слой и иногда доводились до скалы, реже дно ям было заглублено в скалу. Поскольку большинство ям было впущено в культурный слой, размеры их проследить не удавалось, но, судя по нижним частям ям, заглубленных в скалу, они были обычных размеров. Важнее было бы проследить глубины ям, точнее, уровни, с которых они были впущены, что дало бы возможность стратифицировать погребения, но из-за сильной нарушенности свиты культурных напластований это было невозможно.
Умерших помещали в могилы без гробов, нередко на подсыпку из золы, угля или морской гальки. В двух могилах найдены гвозди, что привело к утверждению о наличии в могилах гробов (Белов. 1981. С. 166; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 203); между тем это не единственно возможная интерпретация находок гвоздей в могилах, гвозди, скорее всего, были не от гробов, а от деревянных перекрытий. Наличие перекрытий над могилами подтверждается целым рядом наблюдений.1
1 В могилах 36/1936,30/1937, 73/1936,3/1945 и др. погребения были совершены на спине с коленями, поднятыми вверх. При захоронении в такой позе ноги после разложения связок падают либо в одну, либо в другую сторону, иногда — одна нога
163
Необычным, что, собственно, и привело к многочисленным дискуссиям, является на этом участке положение костяков в могилах. Наряду с вытянутыми захоронениями в могилах довольно часто встречаются захоронения в скорченном положении, последние составляют по подсчетам исследователей около 40% (Белов. 1938. С. 199; Зедгенидзе, Савеля. 1981. С. 195).
Анализ отчетов и проверка описаний погребений по генеральному плану раскопок 1936 г., хранящемуся в ИИМК РАН, приводят к заключению, что в свое время Г. Д. Беловым, а вслед за ним и другими авторами в подсчеты необоснованно введена значительная группа погребений, положение костяков в которой не может быть истолковано однозначно. Это касается как скорченных, так и вытянутых погребений. Попытку определить некоторые погребения как предположительно скорченные или как «погребения с элементами скорченности» нельзя признать приемлемой. Совершенно не ясны и полностью субъективны основания для отнесения того или иного плохо сохранившегося погребения в определенный разряд, поскольку совершенно непонятно, чем же погребения с «элементами скорченности» отличаются от погребений с «элементами вытянутости». Для устранения путаницы все плохо сохранившиеся погребения должны быть отнесены к группе погребений с недостаточными данными и выведены из подсчетов. Результаты подсчетов показывают, что в процентном отношении скорченные погребения составляют только 23%, т. е. почти вдвое меньше, чем считалось ранее.
Г. Д. Беловым показано устойчивое преобладание ориентировки погребений восточного румба для всего северного участка. Этот вывод подтверждается полностью. Подтверждается и другой его вывод о близости ориентировки скорченных и вытянутых захоронений: доля погребений ориентированных в восточном направлении среди первых составляет 72,5%, а среди вторых 84,2 %. Полученная картина не должна заслонять небольшие, но все же имеющиеся различия. Так, количество костяков, ориентированных не в восточном направлении, среди скорченных почти вдвое выше (27,1 %), чем среди вытянутых захоронений (15,2%). Если не учитывать при этом детские амфорные захоронения, то соотношение получается еще более показательным — 27,1 : 9,9%, т. е. доля скорченных с не-восточной ориентировкой превышает долю соответствующих вытянутых почти втрое. Это различие выражено вполне определенно и свидетельствует, думается, о меньшей устойчивости ориентировки именно скорченных захоронений.
Уже неоднократно отмечалось, что городской некрополь Херсонеса в целом и северный его участок в частности заметно отличается от одновременных некрополей других городов Северного Причерноморья бедным, мало в одну сторону могилы, другая в другую. Однако возможно это только в том случае, если могила не засыпана землей, а имеет перекрытие.
164
численным и редко встречающимся инвентарем (Белов. 1981. С. 171). Наблюдения показывают, что погребальный инвентарь на северном участке некрополя имели только 22,2% захоронений; чаще сопровождались инвентарем детские погребения (36,6%). Если не учитывать детские амфорные могилы, то только 24,6% вытянутых и 16,6% скорченных захоронений сопровождались каким-либо погребальным инвентарем. Это означает, что вещи при погребениях встречаются редко как в одном, так и в другом случае, но все же вытянутые захоронения сопровождались инвентарем несколько чаще.
Состав погребального инвентаря и его размещение в могилах подробно характеризовались в различных работах (Белов. 1938; 1948; 1981; Зедгенидзе, Савеля. 1981), поэтому нет необходимости останавливаться на этом специально, ограничимся лишь несколькими замечаниями. Анализ погребального инвентаря показывает отсутствие серьезных различий как по количеству предметов, так и по их составу между погребениями, совершенными вытянуто, и погребениями скорченными. Всюду инвентарь одинаково беден. В отличие от других участков некрополя, на северном берегу в могилах совершенно отсутствуют лекифы и, хотя на других делянках городского кладбища эти сосуды для масла встречаются тоже не столь уж часто, полное их отсутствие здесь вызывает удивление. Для сравнения напомним, что в некрополе, например, Пантикапея этого же времени было найдено более трех сотен лекифов. Отметим и еще одну деталь погребального инвентаря: в могилы на северном участке, как, впрочем, и во всем некрополе города, никогда не ставили амфор в качестве сопровождающего умерших инвентаря.
В первой публикации материалов некрополя Г. Д. Белов датировал северный участок концом V — первой половиной IV в. до н. э. (Белов. 1938. С. 194). Позднее, очевидно, под влиянием датировки С. Ф. Стржелецкого, предложившего для участка дату середина IV — начало III в. до н. э. (Стржелецкий. 1948. С. 93), он отодвинул верхнюю границу к концу IV в. до н. э. (Белов. 1981. С. 177). Корректив, внесенный Г. Д. Беловым, как видим, не коснулся нижней границы, хотя основания для пересмотра датировки имелись и в то время. В принципе, датировка Г. Д. Белова является общепризнанной, хотя и никогда не подвергалась проверке.
Анализ погребального инвентаря позволяет утверждать, что северный участок содержит два пласта погребений — ранний и поздний, причем погребения раннего пласта датируются еще первой половиной — серединой V в. до н. э., т. е. временем, предшествующим принятой дате основания дорийского Херсонеса. Не может быть никаких сомнений о связи ранних погребений с поселением, существовавшим на берегу Карантинной бухты до 422/ 421 г. до н. э. (Монахов, Абросимов. 1993. С. 140 и сл.). Однако для нас сейчас гораздо важнее второй, поздний, пласт погребений, принадлежащий
165
городу гераклеотов. Заметим сразу, что весь комплекс материалов из могил этого периода не выходит за пределы IV в. до н. э. При этом верхняя хронологическая граница надежно фиксируется жилой застройкой последней четверти — конца IV в. до н. э.: именно в это время на площади бывшего некрополя начинают возводиться жилые кварталы.
До сих пор не уделялось должного внимания стратиграфии этого участка. Как известно, северный некрополь располагался в обширной низине, заполненной мусорными напластованиями. Г. Д. Белов не оставил подробного описания стратиграфии участка, но все же отмечал, что мусорный слой лежит на слое желтой надскальной материковой глины (Белов. 1938. С. 24, 164). С. Ф. Стржелецкий выделил здесь три слоя. 1. Желто-коричневая надскальная материковая глина; 2. Слой угля и пепла, смешанный с землей; 3. Собственно насыпь некрополя, состоящая из земли со значительным количеством черепков и камней (Стржелецкий. 1948. С. 95 и сл.). Задача состоит в том, чтобы установить, с какого времени этот мусорный слой начал накапливаться. По своей структуре слой амфорный, содержит многочисленные перекопы и хронологически неоднородный материал от начала V в. до н. э. и до эпохи позднего Средневековья. Таким образом, стратификации слой не поддается. И все же, зная, что погребения на этом участке совершались еще в первой половине V в. до н. э., можно попытаться установить ту группу погребений, которая была впущена в грунт еще до того, как здесь стала образовываться мусорная свалка. Засыпь таких погребений не должна содержать мусорного слоя, т. е. они должны быть перекрыты слоем чистой глины.
Такие погребения были открыты в процессе раскопок и в 1936 и в 1937 гг. Г. Д. Белов в отчетах специально отметил, что ряд погребений был перекрыт чистой глиной со щебенкой без мусора (Белов. 1938. С. 165). Всего таких погребений зафиксировано 11, в шести могилах вещей не содержалось, три могилы относятся к V в. до н. э.1 и, наконец, еще в двух могилах найдены вещи, датирующие эти могилы второй четвертью — серединой IV в. до н. э.2 Из этого можно сделать вывод, что мусорная свалка стала накапливаться здесь не ранее второй четверти IV в. до н. э. Даже в том случае, если свалка представляет собой результат единоразового сброса или нескольких крупных сбросов мусора, то и в этом случае полученная нами дата близка к действительности.
Наш вывод весьма важен потому, что все без исключения скорченные захоронения были впущены в мусорный слой и ни одно подобное захоронение не относится к раннему пласту погребений. Это означает, что мы не только
1 Могилы 1/1937; 12/1937; 15/1937.
2 Могилы 1/1936; 17/1937.
166
можем ограничить такие погребения узкими хронологическими рамками, но и утверждать, что сама традиция помещения в могилу умершего в скорченном положении появляется отнюдь не с самого начала существования города, т. е. с последней четверти V в. до н. э., много позднее — не ранее второй четверти IV в. до н. э., а быть может, и середины столетия.
Следовательно, эта традиция существует в городе не более 40-50 лет или приблизительно на протяжении жизни двух поколений. Нет никаких сомнений в том, что, по-видимому, не позже рубежа IV-III вв. до н. э. эта традиция пресекается. Исчезновение традиции можно объяснить либо естественной убылью группы населения, которой она была принесена, либо тем, что эта группа населения во втором-третьем поколении ассимилируется, утрачивая при этом свои прежние погребальные традиции.
Судя по тому, что на протяжении по крайней мере двух поколений продолжает сохраняться традиция скорченных захоронений, можно думать, что появившаяся во второй четверти IV в. до н. э. новая группа населения некоторым образом обособляла себя от остальной массы жителей города, что выражалось прежде всего в своеобразии позы умерших. Можно даже допустить, что в какой-то мере она была замкнутой, быть может, даже корпоративной, но вместе с тем и не изолированной полностью, поскольку хоронила своих умерших вместе с остальными горожанами на одном из древнейших участков городского некрополя. Думается, что нет никаких препятствий вслед за Г. Д. Беловым рассматривать как скорченные, так и вытянутые захоронения на этом участке как захоронения равноправных свободных граждан города.
Наряду с захоронениями на северном берегу продолжали функционировать и другие одновременные участки городского некрополя, расположенные по периметру границ города. Сопоставив материалы северного участка с материалами других делянок городского кладбища, мы тем самым ответим на второй вопрос о своеобразии некрополя на северном берегу и своеобразии некрополя города в целом, а также на вопрос о том — в какой мере здесь представлены варварские материалы.
Наиболее близок к северному участку некрополь у монастырской оранжереи. Здесь в 1913 г. был заложен P. X. Лепером небольшой треугольной формы раскоп между монастырским двором и оранжереей на монастырской усадьбе (ОАК. 1913-1915. С. 60). Судя по суммарному описанию, было открыто несколько погребений, в том числе и 3 амфорных, которые находились за «стенами из прекрасно тесанных плит». Автором раскопок погребения отнесены к IV в. до н. э., вещи из раскопок оказались депаспортизованы, описания погребений отсутствуют. Может быть, именно отсюда происходит ряд вещей IV в. до н. э. — солонки, ойнохоя, терракоты. К сожалению, отсутствие подробной информации об этом интереснейшем участке не по
167
зволяет в должной мере выявить его особенности, между тем сам факт открытия могил в этом месте представляется чрезвычайно важным.
Далее к югу в районе городского театра, построенного в III в. до н. э., при исследовании северо-западной стороны его энфилеммы в слое, отнесенном ко времени, предшествующему строительству театра, была выявлена серия погребений, синхронных погребениям на северном берегу (Зедгенидзе. 1976. С. 28). Погребения располаглись в древней балке, по склону которой со стороны города открыта оборонительная стена (Домбровський. 1957). Здесь же в балке была открыта мусорная свалка, состоящая в основном из керамического боя. Таким образом, как свалка, так и некрополь находились за пределами городской оборонительной стены.
Всего открыто восемь погребений (ср. Махнева, Пуздровский.1998. С. 74), все они совершены в простых грунтовых ямах с бутовой обкладкой стен, некоторые могилы перекрыты выкладками из камня, что естественным образом предполагает наличие под выкладками деревянного перекрытия. Погребения одиночные, за исключением одного скорченного, вытянутые на спине. Превалирует ориентировка восточного румба. Инвентарь в могилах, как и на северном участке, очень скромный: гуттусы, бусы, монеты, обломок светильника. Судя по инвентарю, участок датируется третьей четвертью IV в. до н. э. Надо заметить, что этот и северный участки весьма близки, они имеют больше черт сходства, чем различия.
Отсюда, из района будущего театра, некрополь продолжался скорее всего в юго-восточном и южном направлениях. Несмотря на то что, по выражению К. К. Косцюшко-Валюжинича, город захватил и уничтожил некрополь этого времени, остатки его все же фиксируются в районе 15 куртины главной оборонительной стены города. Прежде всего, имеется в виду семейная усыпальница 1517-1522, открытая в 1903 г., функционировавшая с конца V или с начала IV в. до н. э., а также несколько погребений третьей четверти — второй половины IV в. до н. э. Среди них есть как грунтовые могилы, обложенные камнем, так и черепичные могилы. Из шести могил, относящихся к интересующему нас времени, в двух захоронения совершены по обряду кремации. Сопровождающий инвентарь небогат, в могилы клали монеты, иногда по чернолаковому сосуду. К числу семейных гробниц этого участка принадлежит и склеп 1012, встроенный в главную оборонительную стену, захоронения в склепе совершались со второй половины IV в. до н. э. до начала III в. до н. э., все погребения совершены по обряду кремации, как и в семейной могиле 1517-1522. Вполне вероятно, что этот район городского кладбища, расположенный вблизи главных городских ворот, был участком, где погребались лица высокого социального ранга — городская элита.
Погребения IV в. до н. э. имеются и на восточном участке некрополя, вытянутом вдоль Карантинной бухты от башни Зенона. Для захоронений эта
168
местность стала использоваться с самого начала IV в. до н. э., если не с конца предыдущего столетия, но столь ранние погребения здесь редки. По тем или иным основаниям к IV в. до н. э. на восточном участке можно отнести около 70 погребений, чуть больше 20 из них синхронны второму пласту погребений северного некрополя, поскольку могут быть датированы серединой — третьей четвертью IV в. до н. э.
Подавляющее число захоронений совершено в простых грунтовых ямах, вытянуто на спине. Данные об ориентировке сохранились всего для восьми погребений, поэтому судить по столь незначительной выборке об этой детали погребального обряд крайне сложно, отметим лишь, что единообразия в ориентировке у этих погребений нет. Нормой обряда было помещать в могилу одного умершего, однако иногда в могилы подхоранивали детей1 или умерших позже взрослых членов семьи,2 но такие случаи, надо признаться, редки.
Что касается погребального инвентаря, то и на этом участке он чрезвычайно малочислен и весьма скромен. Обычно он ограничивается одним, двумя или тремя очень простыми и, надо полагать, очень дешевыми предметами, из которых наиболее часто встречаются простые или чернолаковые тарелки, килики или канфары, лекифы, из украшений — бусы, серьги, перстни, очень редко — лепные сосуды.
На первый взгляд может показаться, что различия между участками Херсонесского некрополя проявляются главным образом в погребальном инвентаре. Действительно, большая часть могил северного участка, как мы помним, погребального инвентаря не содержала, в то время как могилы на других участках, с которыми мы сравниваем северный, все же хоть и очень скромный погребальный инвентарь, но содержат. Из этого вполне резонно может последовать вывод о более низком имущественном и, вероятно, социальном уровне погребенных на северном берегу. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Как на южном участке, так и на восточном у Карантинной бухты в выборку включались только те могилы, которые содержали хоть какие-то вещи, по которым можно было бы установить дату погребения. Таким образом и получилась выборка из могил, в которой безынвентарных погребений нет. Однако на обоих участках таких погребений открыто очень много, но, поскольку захоронения на них совершались и во все последующие эпохи жизни города, отнести эти безынвентарные погребения к какому-то определенному времени возможности нет. Весьма вероятно, что часть этих могил, и можно предполагать, немалая, относится и к рассматриваемому времени. Сказанное можно подтвердить одним, но убедительным примером — так, могила 1045 у Карантинной бухты с монетой третьей четверти IV в. до н. э. перекрывала более ранее безынвентарное погребение 1046.
1 Могила № 1357.
2 Могила № 1046, 1943.
169
В связи с восточным участком некрополя у Карантинной бухты хотелось бы обратить внимание на одну компактную группу захоронений. Речь идет об 11 безынвентарных скорченных захоронениях, открытых в 1908 и 1909 гг. вблизи башни Зенона. В. М. Зубарь, исходя из небольшой глубины могил, отнес их к римскому времени и связал их появление в некрополе города с сарматским влиянием (Зубарь. 1982. С. 41 ). Нелишне напомнить, что в Херсонесе глубина могил ненадежный хронологический показатель, поскольку как правило она зависит от близости скалы и мощности насыпного слоя. Глубина могил со скорченными костяками различна, но не превышает 1,1-1,2 м, между тем единственное точно датированное скорченное погребение, относящееся к римскому времени,1 открытое, кстати, к западу от башни Зенона отдельно от всей компактной группы, было впущено глубже всех. В позднеантичное и римское время скорченная поза костяков встречается исключительно редко и не может рассматриваться как характерная для этого времени, в противоположность времени раннего эллинизма. Сознавая, что вполне определенных однозначных указаний на принадлежность этой серии погребений к тому или иному времени нет, приведем косвенные аргументы в пользу раннеэллинистического времени.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что почти все погребения за исключением одного, открытого в 1909 г., найдены в раскопочную кампанию предыдущего года, это означает, что все они находились на одном небольшом участке вблизи 20-й куртины и башни Зенона. Далее вдоль Карантинной бухты за все годы раскопок таких погребений больше не встречалось.
Любопытно, что на раскопках 1908 и 1909 гг. как раз и были найдены наиболее ранние на всем восточном участке некрополя захоронения. Характерную картину дает расположение могил с монетами середины — третьей четверти IV в. до н. э., а также детских захоронений в амфорах — наибольшее их количество открыто на раскопе 1908 г. и на непосредственно примыкающем к нему раскопе 1905 г. Таким образом, складывается впечатление, что именно территория вблизи 20-й куртины и башни Зенона является наиболее ранней на всем восточном некрополе. Не исключено, что появление здесь скорченных погребений следует связывать с прекращением функционирования северного участка Херсонесского некрополя в последней четверти IV в. до н. э. К сожалению, изложенные нами соображения не обладают необходимой доказательной силой, и настаивать на предложенной интерпретации веских оснований нет.
Как видим, резких различий между участками Херсонесского некрополя не выявляется. Разумеется, каждый из районов городского кладбища обладает определенным набором своеобразных черт, однако при этом черты сходства создают настолько яркое своеобразие некрополя в целом, что на
1 Могила № 2816.
170
этом стоит остановиться специально. К их числу без всяких натяжек относится грунтовый характер городского кладбища. За все годы раскопок здесь не было открыто ни одной курганной насыпи, и это, надо полагать, не случайное явление. Отсутствие в Херсонесе традиции хоронить умерших под курганной насыпью не может быть объяснено ни отсутствием для этой цели благоприятных природных условий, ни тем, что эта традиция на всем протяжении истории города оставалась херсонеситам неизвестной. По крайней мере один пример того, что сооружение курганов здесь было возможно, у нас есть. В 1872 г. в 3 верстах от Херсонеса у Стрелецкой бухты на земле полковника Шверина был раскопан курган высотой 4 сажени. Насыпь кургана состояла из камня, в основании насыпь окружала крепида, состоящая из тесаных известняковых блоков, уложенных в два ряда, верхний ряд сложен из рустованных блоков. В 1908 г. курган был доследован H. М. Печенкиным. Под насыпью кургана обнаружена бронзовая урна с пеплом, обследовавший содержимое урны А. В. Орешников не сомневался в погребальном характере сосуда, поскольку на дне его им были обнаружены кальцинированные кости человека.1 По своему характеру, архитектуре, облику погребения, содержавшегося в кургане, весь этот комплекс целиком находился в русле погребальных традиций причерноморских греков. Если мог быть сооружен Шверинский курган, следовательно, херсонеситы были близко знакомы с этой традицией и, следовательно, местные природные условия не были главным препятствием для их сооружения. Заметим попутно, что Шверинский курган был возведен не вблизи города на городском кладбище, а в некотором от него удалении.
Нет сомнений в том, что невосприимчивость жителей города к влиянию не только варварского окружения, но и погребальной практики соседних эллинских городов, где традиция захоронения в курганах получила устойчивое и повсеместное распространение, коренится в строгости погребальных норм, их консервативности, опиравшихся, скорее всего, на какие-то внутриполисные представления, быть может, даже оформленные законодательно.
На протяжении всего рассматриваемого времени, да, пожалуй, и позднее, представления жителей города в отношении сопровождающего умерших инвентаря почти не изменялись. Многие погребения были безынвентарными, там, где сопровождающий инвентарь имелся, он представлен немногочисленными простыми и дешевыми вещами. В числе предметов погребального инвентаря отсутствуют вещи, связанные с варварским окружением города. Исключение составляют две могилы, в которых было найдено по одному лепному сосуду «скифского» облика. В одной из могил (7/1936) кро
1 Письмо В. А. Орешникова H. М. Печенкину от 8.XII. 1908. Архив ИИМК РАН. Ф. 27. № 1.Л.4.
171
ме лепного сосуда другого инвентаря не было, зато в могиле 2348 кроме лепного сосуда были поставлены чернолаковое блюдце и гуттус. К числу исключений можно, пожалуй, отнести небольшую бронзовую бляшку с изображением крылатой богини с растительными побегами вместо ног, найденную в каменном разграбленном гробу.1 Сюжет находит многочисленные параллели среди скифских степных памятников. К числу подобных изображений относится и золотой медальон с изображением скифа и грифона, найденный в некрополе в 1907 г. (Пятышева. 1956. С. 14. № 13). Однако особого внимания заслуживают вещи подстенного склепа 1012. Судя по всему, это погребальное сооружение принадлежало семье, занимавшей в городе особое социальное положение, поскольку оно единственное было сооружено в городской стене рядом с главным въездом в город. Выдающимся на фоне большинства херсонесских могил оно оказывается и по богатству содержавшихся в нем вещей. Как это ни странно, но именно здесь, в этом богатом подстенном склепе мы встречаемся с вещами, аналогии которым легко найти среди вещей из скифских царских захоронений и захоронений боспорской знати. К их числу прежде всего относятся пара золотых витых серег, оканчивающихся львиной мордой, очень близких серьгам из Куль-Обы, бараньи головки, аналогичные головкам из Гаймановой могилы, золотые нашивные бляшки с изображением цветка лотоса, мужской бородатой головы, крылатой змееногой богини. Бляшки с изображением змееногой богини чрезвычайно близки аналогичным из Куль-Обы, возможно, они даже изготовлены с одной матрицы (Manzewitsch. 1932. Taf. I, II).
Между тем сам склеп, все погребения в нем, совершенные по обряду кремации, а также сосуды для хранения праха, один из которых получен в качестве приза на празднике Анакий, не содержат ничего, что бы можно было связать с влиянием со стороны варваров. Учитывая уникальный для всего Херсонесского некрополя характер комплекса, появление вещей, близких тем, которые встречаются в степных царских курганах и курганах боспорской знати, видимо, следует объяснять какими-то необычными, экстраординарными событиями. Скорее всего, они отражают какие-то семейные связи, быть может, обусловленные политической необходимостью. Однако, судя по датировке вещей комплекса, связи эти были весьма непродолжительными.
Возвращаясь к погребальному инвентарю могил Херсонесского некрополя, необходимо подчеркнуть, что они по своему составу, богатству, «качеству» резко отличаются от инвентаря захоронений в других городах Северного Причерноморья: как уже отмечалось, он необычно малочислен, скромен и даже беден. Вряд ли эту его особенность следует объяснять скромным достатком жителей города или их скупостью; ответ, скорее всего, надо искать
1 Могила № 326.
172
в специфике погребальных традиций и погребальных норм, неукоснительно соблюдаемых гражданами полиса.
Как видим, ни лепная керамика, ни погребальные сооружения, ни погребальный обряд не позволяют сделать вывода о присутствии сколько-нибудь значительных групп варварского населения в городе, равно как и о наличии долговременных и устойчивых связей Херсонеса с варварским окружением.
3.8. Просопография Херсонеса
Присутствие в Херсонесе значительных групп варваров обосновывалось также и наличием негреческих имен в просопографическом фонде города. «Имена херсонеситов негреческого происхождения... свидетельствуют о том, что некоторые варвары могли входить в число правящей верхушки города» (Даниленко. 1966. С. 168). Наличие в клеймах таких имен, как ΣΚΥΞΑΣ и ΝΑΝΩΝ свидетельствует о том, что выходцы из туземной среды наряду с греками занимались в городе гончарным ремеслом и что некоторые из них могли занимать должности астиномов (Борисова. 1949. С. 92). Сомнения в обоснованности подобных выводов возникали и ранее (Кадеев. 1974), но для доказательства их несостоятельности необходимо было проанализировать весь просопографический фонд Херсонеса. К счастью, в последние годы такая работа была проделана В. Ф. Столбой (Столба. 1991). Было проанализировано около 1000 антропоономастических единиц, сохранившихся на монетах, керамических клеймах, в лапидарных надписях, граффити и др. В результате проделанного анализа выясняется, что число негреческих имен в городе в IV-III вв. до н. э. чрезвычайно мало. По языковой принадлежности они делятся на группы: 1 ) Группа малоазийских личных имен и предположительно малоазийских; 2) Группа личных имен фракийского происхождения. Иранских имен, происхождение которых можно было бы связать со скифским языком, в Херсонесе IV—II вв. до н. э. не отмечено (Столба. 1990. С. 5). Последний вывод весьма для нас важен.
Если считать, что лепная керамика, в принципе, отражает проникновение в греческие города низших слоев негреческого населения, а просопография — проникновение представителей эллинизированной негреческой верхушки (Виноградов Ю. Г. 19816. С. 137), то в отношении Херсонеса IV — первой трети III в. до н. э. ответ получается одинаково отрицательный.
3.9. Основные выводы
Рассматривая процесс и характер взаимодействия окружающих варварских племен и греческих гражданских коллективов в Северном Причерноморье, невозможно миновать заключения о том, что процесс проникновения варварских культурных элементов носит не дискретный, а перманентный характер. С самого начала жизни греческих апойкий — будь то Березанское
173
поселение, Ольвия или города Боспора — везде наблюдается постоянная диффузия варварских компонентов в эллинские общины; происходит постоянная подпитка культуры, остающейся в своей основе греческой, варварскими традициями. Малейшее изменение в способах орнаментации лепной керамики в степной части Северного Причерноморья сразу же или в течение очень короткого времени находит адекватное отражение в лепной посуде, происходящей из греческих городов. Изменение конструкции или появление новых типов погребальных сооружений на территории ближайшего варварского окружения влечет за собой немедленные изменения и в городских некрополях. Приведенные примеры не единичны, этот ряд можно продолжать весьма долго, однако и этих примеров, по-видимому, достаточно, чтобы констатировать: в Херсонесе эти тенденции проявляются очень слабо.
Все эти обстоятельства, которые мы рассмотрели выше, заставляют скептически относиться к возможности присутствия в среде жителей города значительных групп варварского населения. Необходимо признать также, что при отсутствии в материальной культуре города достаточно ясных, хорошо различимых проявлений культуры варварского окружения и влияний со стороны последних на весь круг эллинских культурных традиций херсонеситов сама постановка такой проблемы — присутствие варварского населения в Херсонесе — лишается всякой опоры.
Очевидно, и вряд ли с этим возможно спорить, что какие-то отдельные выходцы из варварской среды в составе населения города могли присутствовать и присутствовали. Однако либо в силу своей малочисленности, либо под влиянием каких-то иных причин такой культурной «критической массы», которая могла бы восприниматься гражданским коллективом и заимствоваться хотя бы на уровне отдельных традиций, в Херсонесе не образовалось. По-видимому, в городе не существовало субкультуры варваров, способной наложить отпечаток на культуру коренного населения города.
Наряду с этим существует достаточно данных о том, что гражданский коллектив Херсонеса не был изолирован от контактов с ближними и дальними варварскими племенами. Хорошо известно место Херсонеса в экономике Северного Причерноморья — достаточно вспомнить, что поставки вина в Скифию из Херсонеса на рубеже IV—III вв. до н. э. достигали весьма солидных размеров. Надо полагать, что и город в обмен за вино получал интересующие его товары. Так что контакты, и весьма тесные, конечно же, существовали, однако при этом они не вели к проникновению в город инородных культурных традиций и, по всей видимости, носителей таких традиций. Речь идет о специфическом, пожалуй, уникальном во всем Северном Причерноморье способе взаимодействия с варварским окружением, при котором влияние со стороны варваров на культуру горожан если и не исключалось полностью, то сводилось до минимума. Быть может, и в этом проявляется особенность дорийской гражданской общины.
174
Нельзя не вспомнить слова Плиния о Херсонесе, который, по его мнению, «был самым блестящим пунктом на всем этом пространстве благодаря сохранению греческих обычаев» (Plin. N. H., Il, 85).
4. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму
4.1. Колонизация Северо-Западного Крыма
Первая греческая колония на побережье Северо-Западного Крыма — Керкинитида. Время ее основания — вторая половина VI в. до н. э. Немногочисленные материалы середины — третьей четверти VI в. до н. э., встречающиеся при раскопках городища Керкинитиды, как будто позволяют связать появление поселения на берегу Каламитского залива с миграционной волной из Ионии после разгрома ее персами в 545 г. до н. э. (Кутайсов. 1990. С. 143). Обнадеживает, что эти ранние материалы происходят из стратиграфического горизонта конца VI — начала V в. до н. э., который перекрывает первые землянки, но предшествует наземному домостроительству (Кутайсов. 1990. С. 39). Учитывая, что наиболее древние напластования города подтоплены грунтовыми водами и пока недоступны для исследований, следует признать вероятность датировки основания города третьей четвертью VI в. до н. э. реальной. Во всяком случае раскопки Керкинитиды, проводившиеся в 80-е гг., не оставляют сомнений в том, что ко времени составления Гекатеем Милетским «Землеописания», где упоминается Керкинитида, город действительно уже существовал. Можно считать окончательно закрытой дискуссию о времени возникновения этого поселения.
Важным обстоятельством является признание Керкинитиды ионийской апойкией, это следует из анализа граффити, выполненных на ионийском диалекте, и подтверждается некоторыми другими данными: характером денежного обращения, приемами застройки, культами (Кутайсов. 1992. С. 47).
О раннем периоде жизни поселения на Карантинном мысу известно немного, — нижние, наиболее древние слои поселения, как уже указывалось, подтоплены грунтовыми водами и по этой причине недоступны для изучения. Установлено, что с момента основания и до конца первой трети V в. до н. э. Керкинитида, так же как и ранняя Ольвия, была застроена грунтовыми жилыми и хозяйственными сооружениями — замлянками и полуземлянками. Причем в обоих центрах исследователи отмечают в пределах городской территории определенную регламентацию в размещении такого рода сооружений (Крыжицкий. 1982. С. 11-12; Кутайсов. 1992. С. 48).
Радикальные изменения фиксируются в Керкинитиде в 70-60-е гг. V в. до н. э.: в это время возводятся первые крепостные стены города, пространство внутри них разбивается на кварталы по строго регулярной планировоч
175
ной схеме, близкой к Гипподамовой. В этом отношении Керкинитида наряду с Березанским поселением демонстрирует один из ранних и очень показательных примеров регулярной застройки площади города (Крыжицкий. 1993. С. 56). В указанное время завершается переход от грунтовых жилищ и хозяйственных структур к возведению сырцово-каменных наземных многокамерных зданий.
Судя по всему, Керкинитида до конца V в. до н. э. оставалась единственным эллинским пунктом на всем северо-западном побережье Крымского полуострова — одновременных ей памятников в этом районе пока не известно. Предположение В. А. Кутайсова о существовании в это время еще двух апойкий Дандаки и Тамираки пока не подкреплено археологическими данными.
Ранний период освоения эллинами Северо-Западного Крыма изучен явно недостаточно. Можно строить лишь догадки о размерах и степени освоения ближайшей к городу округи, о том, как далеко простирались экономические интересы гражданской общины керкинитов; однако, несомненным остается тот факт, что в условиях Северо-Западного Крыма для Керкинитиды существовали неограниченные возможности расширения границ полиса. Между тем вплоть до конца V в. до н. э. мы не располагаем никакими сведениями об освоении ближайшей к городу территории, не говоря уже о расширении полисных границ. Разумеется, необходимо учитывать скромные возможности самого гражданского коллектива города, но не исключено, что росту территории полиса препятствовали внешние факторы, в частности, его варварское окружение, контролировавшее основную территорию полуострова.
Керкинитида, так же как и Ольвия, располагалась на крайней южной границе Скифии. Оба эти полиса в силу своего географического положения были непосредственно связаны с миром кочевников и не могли оставаться в стороне от событий и процессов, происходящих в степной зоне Северного Причерноморья. В этом отношении весьма показательна история Ольвийского полиса в V в. до н. э., где после бурного расцвета сельской округи в конце VI — начале V вв. до н. э. в конце 70-х гг. V в. до н. э. происходит резкая редукция хоры и запустение подавляющего числа сельских поселений (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 94).
Восстановление сельской территории Ольвийского государства начинается только в последней четверти V в. до н. э. Указанные события вполне обоснованно увязываются с изменениями, происходящими в степной Скифии (Доманский. 1981. С. 157-162). Иными словами, именно «варварский фактор» сдерживал на протяжении 50-70 лет V в. до н. э. развитие Ольвийского полиса.
Надо полагать, что в подобной или очень близкой ситуации могла быть и Керкинитида. В отличие от Ольвии, где нет прямых свидетельств зависимости города от варваров, в Керкинитиде такое свидетельство имеется. Речь
176
идет о недавно найденном эпиграфическом документе — письме Апатурия Невмению, где содержится упоминание об уплате дани скифам (Соломоник. 1987; Кутайсов. 1992). Текст процарапан на черепке фасосской амфоры третьей четверти V в. до н. э. Условия находки и палеография указывают на последнюю четверть V в. — рубеж V-IV вв. до н. э. как на наиболее вероятное время нанесения надписи. Ввиду несомненной важности приведем текст документа полностью в переводе Э. И. Соломоник с дополнениями Ю. Г. Виноградова: «Апатурий Невмению. Соленую рыбу свези домой и равное количество связок для нее; и пусть никто не занимается твоими делами; и конечно, тщательно следи за волами; и узнай, кто будет платить дань скифам» (рис. 11.1).
Для нас в числе повседневных хозяйственных распоряжений чрезвычайно важными являются сведения о выплате дани скифам. Правда, неизвестно, как часто и в какой форме производились выплаты, но то, что они имели место, заставляет допускать наличие определенного рода соглашений, договоренностей на этот счет. Следовательно, предположение о существовании некой зависимости греческих городов от местных варваров в виде протектората или в какой-то иной форме, как видно на примере Керкинитиды, отнюдь не беспочвенно (см., например: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 90-109).
Какое-то количество выходцев из варварской среды проживало непосредственно и в самом городе, о чем свидетельствуют находки в культурных
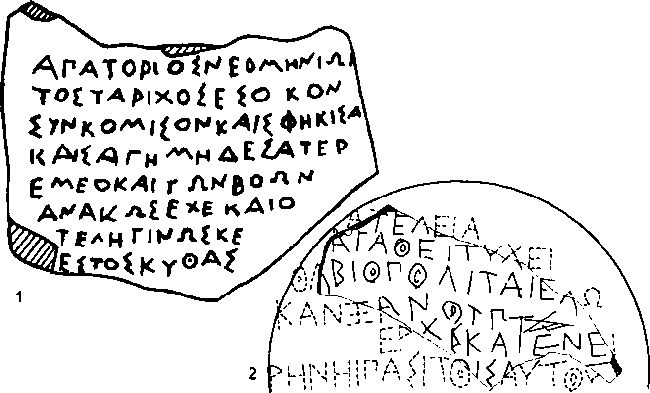
Рис. 11. Греческие граффити (1 — граффито на горле фасосской амфоры из Керкинитиды; 2 — граффито на обломке чернолаковой чашки из поселения Панское 1 )
177
слоях поселения лепной керамики. Напомню, что именно обнаружение обломков лепных чернолощеных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом в процессе исследования жилого дома начала V в. до н. э. в центральной части Евпаторийского городища и привело к заключению о существовании на месте Керкинитиды предшествовавшего ей варварского поселения (Налив-кина. 1957. С. 267; 1959. С. 184; 1963. С. 55). Впоследствии было показано, что обломки лепных чернолощеных сосудов с резным и гребенчатым орнаментом связаны исключительно со строительными комплексами античной Керкинитиды (Голенцов. 1981. С. 230-231 ; Кутайсов. 1987. С. 24-40) и что, следовательно, предположение о догреческом варварском поселении на месте города не соответствует реальной археологической ситуации.
Специальное исследование этой группы керамики показывает, что вопреки распространенным представлениям количество обломков посуды такого рода не так уж и велико — всего за годы раскопок учтено 219 обломков от 63-65 условно целых сосудов, они составляют «ничтожное количество в сравнении с общим объемом античного материала из раскопок Керкинитиды» (Кутайсов. 1987. С. 35).
Весьма важны и два других наблюдения. Из достаточно обширной номенклатуры категорий сосудов кизил-кобинской керамики, распространенной на памятниках горного и предгорного Крыма, в керамическом комплексе Керкинитиды представлены все категории: горшки, сосуды реповидной формы, чашки, черпаки, кубки, кувшины (Кутайсов. 1987. С. 29). Это позволяет характеризовать связи города с областью расселения таврских племен как непосредственные.
Второе наблюдение хронологического порядка — подобная керамика встречается преимущественно в ранних слоях города: с начала V в. до н. э. и до третьей четверти IV в. до н. э., в более позднее время обломки ее единичны (Кутайсов. 1987. С. 35). Логично связать сокращение присутствия лепной лощеной керамики кизил-кобинских типов в слоях Керкинитиды с начавшейся в это время экспансией Херсонеса в Северо-Западный Крым, повлекшей за собой изменения в традиционных связях города.
Повышенный интерес к кизил-кобинской керамике привел к тому, что из поля зрения исследователей как бы выпала лепная керамика скифского облика, которая, кстати сказать, встречается в тех же слоях и комплексах, что и чернолощеная керамика. Более того, с исчезновением с конца IV в. до н. э. таврских образцов в лепной керамике доминирует скифская степная (Кутайсов. 1991. С. 75). Таким образом, в керамическом комплексе Керкинитиды фиксируется два вида лепной керамики — керамика степных форм, традиционно связываемая с кочевыми скифами, и чернолощеная керамика с резным и гребенчатым орнаментом, распространенная в горном и предгорном Крыму, где обитали тавры письменных источников.
178
4.2. Северо-Западный Крым до херсонесской экспансии
Следующий период освоения эллинами побережья Северо-Западного Крыма начинается в конце V или на рубеже V-IV вв. до н. э.; он продолжается до времени включения этих территорий в состав Херсонесского государства, произошедшего не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э. (рис. 12/1)
Несмотря на то что для сколько-нибудь полной характеристики этого периода материалов пока тоже недостаточно, тем не менее его основные черты обозначить можно уже сегодня. Прежде всего необходимо отметить изменения, происходящие вокруг Керкинитиды и в самом городе. Если верны датировки авторов раскопок, то можно говорить о появлении в ближайшей округе Керкинитиды целой серии поселений, возникающих в конце V — первой половине IV в. до н. э. Самый южный из этих памятников — поселение Ново-Федоровка, где отмечены материалы конца V — первой половины IV в. до н. э. (Ланцов. 1994. С. 92). К указанному времени относят возникновение таких поселений, как Кара-тобе, Маяк 2 (Колесников. 1985; Колесников, Яценко. 1989. С. 58). К числу ранних нужно причислить сельскую усадьбу с круглой башней, открытую П. И. Филонычевым и доследованную М. А. Наливкиной, где найдены материалы конца V — начала IV в. до н. э. (Наливкина. 1953. С. 133). Усадьба гибнет не позже третьей четверти IV в до н. э. (Колесников. 1985).
Второй четвертью IV в. до н. э. датируется возведение «фактории» на поселении Чайка. Однако строительные остатки, открытые в районе 4-й башни, со всей очевидностью, показывают, что здание фактории возведено на развалинах более ранних строительных комплексов, относящихся, скорее всего, еще к V в. до н. э. (Карасев. 1967. С. 215; Карасев. 1966. Л. 40, 50), а быть может, и к еще более раннему времени, если учитывать находку ро-
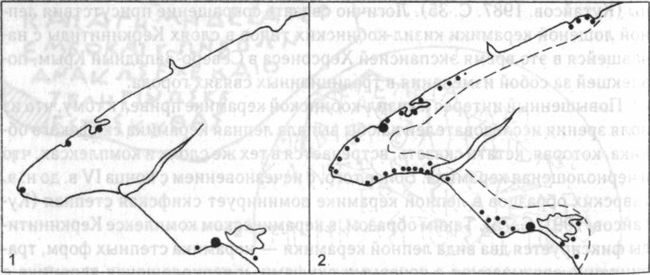
Рис. 12. Карта-схема Северо-Западного Крыма (1 — второй этап греческой колонизации; 2 — третий этап греческой колонизации)
179
досской тарелки середины — третьей четверти VI в. до н. э. на дне моря напротив памятника (Карасев. 1965. Л.30).
В настоящее время нет никаких серьезных оснований связывать появление всех этих памятников с деятельностью каких-то иных полисов (ср.: Колесников, Яценко. 1989; Щеглов. 1986), за исключением Керкинитиды. Думается, что их появление отражает начальный этап сложения керкинитидской сельскохозяйственной области. Этот вывод следует не только из того, что эти памятники расположены вблизи полисного центра, но и в несомненной общности некоторых строительных приемов.1
Надо полагать, перестройка крепостных стен, расширение территории, интенсивное строительство в городе и одновременное (или вскоре вслед за этим) появление поселений на ближайшей к городу земледельческой округе связаны с процессами изменений как во внутренней жизни самого полиса, так и в его взаимоотношениях с варварским окружением. Об изменении общей ситуации говорит и начавшееся на рубеже V-IV — в первой половине IV в. до н. э. заселение северного побережья Тарханкутского полуострова. Среди памятников этого региона назовем прежде всего Калос Лимен, точнее? то небольшое поселение, которое существовало на его месте. Предположение о более ранней начальной дате Калос Лимена уже высказывалось в литературе, правда, без опоры на конкретный археологический материал (Щеглов. 1986. С. 166. Примеч. 35; 1990 С. 39). Давно известны находки из некрополя Калос Лимена, правда, большей частью случайные, но они старше общепринятой даты основания города как минимум на 30-40 лет. Исследования этого памятника Западнокрымской экспедицией ИА НАН Украины, проведенные в последние годы, открывают возможность обоснованного пересмотра хронологии Калос Лимена (Кутайсов, Уженцев. 1997. С. 43-47). Исследователи отмечают помимо всего близость строительной техники и толщины восточной куртины Калос Лимена с оборонительной стеной середины IV в. до н. э. на западной окраине Керкинитиды (Кутайсов, Уженцев. 1994. С. 51).
Скорее всего, в круг ранних памятников нужно включать и Караджинское городище, из некрополя которого происходили ранние вещи (Щеглов. 1986. Примеч. 35). Разумеется, что это только догадка, поскольку сами вещи утрачены, но судя по облику погребальных сооружений некрополя этого городища, по подкурганным склепам из камня, которые хорошо сохрани
1 Стена № 4 первого строительного периода на поселении Ново-Федоровка покоится на слоевом основании; ближайшие аналогии этому строительному приему для этого времени можно найти только в Керкинитиде (Кутайсов. 1990). Отметим, что возведение стен на слоевых основаниях не получило развития в херсонесской строительной практике ни в самом городе, ни на памятниках хоры.
180
лись до настоящего времени, они принадлежат действительно ко времени не позже середины — третьей четверти IV в. до н. э., позднее подобных сооружений в Северо-Западном Крыму уже неизвестно. Вместе с тем, если подтвердится локализация на месте этого городища Дандаки, восстанавливаемой в последней строке списка Понтийского податного округа (Кутайсов. 1990. С. 149), то возможно, что поселение нужно будет относить к еще более раннему времени.
На рубеже V-IV вв. до н. э. на берегу Ярылгачской бухты в Северо-Западном Крыму основывается поселение Панское I (рис. 13). Как установлено, поселение и могильник, расположенный рядом, существуют на протя-
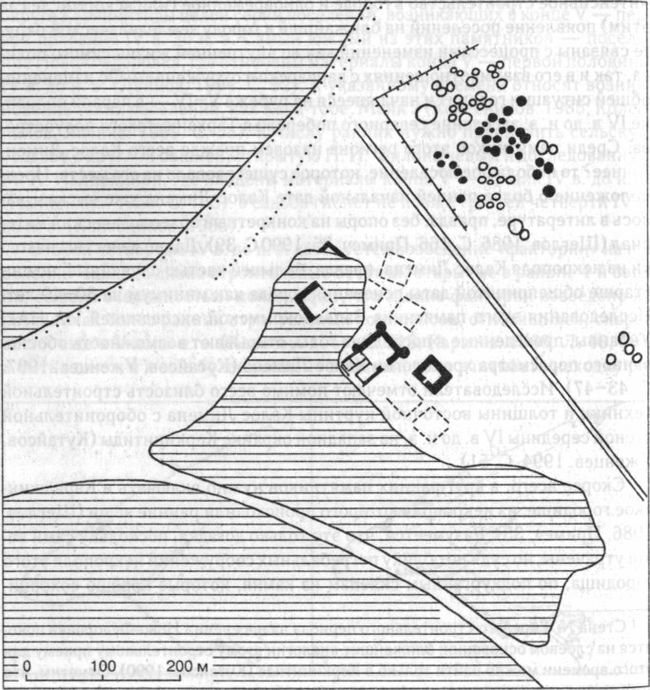
Рис. 13. Поселение и могильник Панское I
181
жении всего IV в. до н. э. и первую треть III в. до н. э., в конце указанного периода поселение гибнет и жизнь на нем уже более не возобновляется.
Естественно, что наиболее важным представляется начальный период в жизни поселения, к сожалению, остающийся почти не изученным. Тем не менее следует отметить наличие небольшого, но отчетливо выраженного временного разрыва между наиболее ранними комплексами некрополя и материалом из древнейшего слоя поселения: серия наиболее ранних могил некрополя датируется в пределах рубежа V-IV в. до н. э. — первой четверти IV в. до н. э., что по меньшей мере на четверть века старше вещей из древнейшего слоя поселения. Отмеченный разрыв в датировке представляет собой необычное, пожалуй, даже исключительное явление, поскольку целая серия памятников в Северном Причерноморье демонстрирует обратную картину — материал из наиболее ранних погребальных комплексов всегда несколько позднее материалов из древнейших слоев поселений. Имеющиеся хронологические несовпадения между ранними комплексами поселения Панское I и его могильника, скорее всего, говорят о том, что наиболее ранние строительные комплексы поселения пока еще не открыты.
Возведение четырехбашенного форта на поселении относится, по-видимому, к концу первой четверти IV в. до н. э. Первая существенная перепланировка здания, возможно связанная с устранением последствий пожара, может быть, датируется материалами колодца, функционировавшего на протяжении всего первого строительного периода в одном из помещений, засыпанного и перекрытого стеной во время перепланировки. В керамическом комплексе из колодца к числу наиболее поздних принадлежат обломки скифосов (типа АА, 352), а также несколько обломков сетчатых лекифов с орнаментом, характерным для сосудов не ранее середины — конца второй четверти IV в. до н. э. Именно эти наиболее поздние вещи и заставляют датировать первую перестройку четырехбашенного укрепления У7 временем не ранее конца второй четверти IV в. до н. э. (ср.: Щеглов. 1985. С. 85; 1986. С. 166). Такая датировка событий хорошо коррелирует с изменениями, фиксирующимися в погребальном обряде некрополя, которые происходят также во второй четверти столетия (Рогов. 1989. С. 102).
Материалы некрополя позволяют ответить и еще на один чрезвычайно важный вопрос о происхождении первопоселенцев Панского I. К самому раннему пласту погребений некрополя принадлежит серия подбойных могил, которые по своему устройству, размерам, характеру размещения погребального инвентаря, типам закладов подбоев имеют прямые аналогии в городском некрополе Ольвии. Надо заметить, что в могильниках сельской округи Ольвии этот тип погребальных сооружений становится известен сравнительно поздно — не ранее второй четверти IV в. до н. э., хотя некоторые исследователи относят появление подбоев на хоре Ольвии даже ко вто
182
рой половине IV в. до н. э. (ср.: Снытко. 1988. С. 103). Отмеченное обстоятельство, а также ряд других наблюдений (Щеглов, Рогов. 1985) позволяют связать появление поселения Панское I непосредственно с деятельностью в этом районе Крыма выходцев из самого города Ольвии.
Постепенное накопление материалов конца V — первой половины IV в. до н. э., свидетельствующих об освоении побережья Северо-Западного Крыма в это время, подводит к постановке и попыткам решения вопроса о том, какими полисами проводилось заселение побережья. Прямых свидетельств, за исключением упомянутых нами выше в отношении поселения Панское I, не существует, однако догадки и предположения, основанные на соображениях общего порядка, высказывались.
Что касается памятников, открытых вблизи Керкинитиды, то, как уже упоминалось, есть серьезные основания связывать их с деятельностью именно этого полиса. Вместе с тем некоторые исследователи связывают появление поселений Маяк-2, Чайка, Кара-тобе с экспансией Херсонеса в этот район. Правда, в этом случае приходится допускать, что освоение Северо-Западного Крыма Херсонесом началось со второй четверти IV в. до н. э. и с земель этого района (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). К этому же времени относит начало проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым и А. Н. Щеглов (Щеглов. 1986; Виноградов, Щеглов. 1990). К этому вопросу мы вернемся ниже, а пока сжато изложим точку зрения, предложенную сравнительно недавно и отражающую заинтересованность Гераклеи в хлебных равнинах Северо-Западного Крыма.
Согласно этой точке зрения, херсонесскому этапу освоения Северо-Западного Крыма предшествовал гераклейский, с ним связано возведение гераклейского эмпория в конце V — начале IV в. до н. э. на месте поселения Чайка с целью распространения гераклейского влияния на племена Западной Таврики (Сапрыкин. 1986. С. 93). Заинтересованность Гераклеи в землях Северо-Западного Крыма могла появиться вследствие неудач Феодосии в войне с Боспором и утратой влияния Гераклеи в Восточном Крыму (Сапрыкин. 1986. С. 96). Интерес Гераклеи к событиям, происходящим в Таврике, равно как и во всем Северном Причерноморье, судя по многочисленному импорту из этого полиса, не мог не иметь места, поэтому логично допустить, что после утраты Гераклеей возможности получать хлеб из Восточного Крыма через Феодосию она была вынуждена искать иные источники удовлетворения своих нужд. В этой ситуации земли Западного Крыма могли и, пожалуй, должны были рассматриваться гераклеотами в качестве потенциального поставщика хлеба.
Эти вопросы заслуживают самого серьезного внимания и углубленной проработки, однако сегодня для более или менее удовлетворительного ответа на них данных недостаточно. Вернемся все же к проблеме освоения Севе-
183
ро-Западного Крыма ольвиополитами. Можно, пожалуй, согласиться с предостережениями о чрезмерно расширительной трактовке участия Ольвии в освоении Северо-Западного Крыма (Ланцов. 1994. С. 93). Ввиду отсутствия на всех остальных ранних памятниках Северо-Западного Крыма бесспорных свидетельств присутствия ольвиополитов выделение «ольвийского» этапа в освоении земель северо-западной Таврики по меньшей мере преждевременно. К этому можно добавить и другие соображения.
Общеизвестно, что так называемая реколонизация хоры Ольвии, т. е. возрождение жизни на большинстве сельских поселений ольвийской округи, приходится на первое десятилетие IV в. до н. э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99), хотя первые признаки возрождения относятся к более раннему времени — V в. до н. э. Имеются серьезные основания отодвинуть начало процесса даже в третью четверть V в. до н. э. Наиболее ранние вещественные находки и строительные комплексы на поселениях Старая Богдановка 2, Козырка 12-южная, Чертоватое 7 показывают, что робкие ростки возрождения ольвийской сельской округи начинаются именно в третьей четверти V в. до н. э. Этот постепенно набиравший силу процесс достигает наибольшего размаха на рубеже V-IV вв. до н.э. — в начале IV в. до н. э. На фоне активного освоения как ближайшей к Ольвии территории, так и земель, удаленных от города на 30-40 км к северу и югу, учитывая отсутствие каких-либо ограничений расширения земельного фонда города, возможность, а главное, необходимость приобретения дополнительного земельного фонда в Северо-Западном Крыму, куда менее плодородном, нежели Нижнее Побужье, выглядит крайне сомнительно
Нельзя пройти мимо и другого чрезвычайно важного обстоятельства: четырехбашенный форт на берегу Ярылгачской бухты ни по планировке, ни по своим строительным приемам не имеет параллелей на памятниках ольвийской хоры. Более того, он демонстрирует полную противоположность всему тому, что мы знаем о сельских памятниках Ольвии этого времени.
Разведки и стационарные раскопки ольвийских сельских поселений показывают, что с самого начала возрождения жизни на них — в V в. до н. э. и на протяжении всей первой половины IV в. до н. э. — они застраивались в основном грунтовыми жилыми и хозяйственными сооружениями — землянками и полуземлянками. Только около середины IV в. до н. э. намечается переход к наземному сырцово-каменному строительству (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991. С. 71 ). Однако ни в первой, ни даже во второй половине IV в. до н. э. ничего подобного четырехбашенному укреплению Панского на хоре Ольвии нет. Именно поэтому приходится признать исключительный, особый характер этой четырехбашенной постройки, никак не связанной с процессами формирования земледельческой базы Ольвии. Скорее всего, возникновение форта на Панском следует рассматривать в кон
184
тексте бурных политических событий, происходивших в Ольвии в конце V — начале IV в. до н. э.
Итак, как мы видим, существуют различные предположения о том, кто и как осваивал Северо-Западный Крым в первой половине IV в. до н. э. Однако какую бы точку зрения мы не приняли, в любом случае придется признать — колонизация побережья не была сплошной, поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в это время, были небольшими и были удалены друг от друга на значительное расстояние. Вопрос же о том, каким из полисов проводились мероприятия по освоению побережья, в настоящее время не может быть решен однозначно: для этого пока слишком мало достоверных данных. Безусловно, его решение осложняется еще и тем, что исследователи вольно или невольно рассматривают этот регион как единое целое, в то время как таковым он становится только в конце IV в. до н. э. в составе Херсонесского государства. Проецирование на первую половину IV в. до н. э. ситуации конца столетия не может не заслонять действительное положение вещей. Не исключено, что Северо-Западный Крым был областью интересов сразу нескольких полисов, и все они в какой-то мере причастны к освоению его земель.
4.3. Северо-Западный Крым в составе Херсонесского государства
Следующий, третий и последний период освоения эллинами Северо-Западного Крыма несомненно связан с интенсивной колонизационной деятельностью Херсонесского полиса (рис. 12.2). Еще совсем недавно начало проникновения Херсонеса в этот район датировалось большинством исследователей последней четвертью и даже концом IV в. до н. э. и ставилось в связь с событиями в степной Скифии (Щеглов. 1976. С. 82). Считалось, что благоприятные условия для колонизации Северо-Западного Крыма Херсонесом сложились после гибели скифского царя Атея и последовавшим за этим ослаблением Скифской державы (Щеглов. 1978. С. 119). Правда, как тогда, так и теперь нет полной уверенности в том, что владения Атея охватывали всю степную зону Северного Причерноморья и в том числе Северо-Западный Крым (см.: Шелов. 1971. Здесь изложены две точки зрения на величину державы Атея и соответствующая библиография).
В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что экспансия Херсонеса в этот район началась значительно раньше — еще во второй четверти IV в. до н. э. (Колесников, Яценко 1989. С. 58; Щеглов. 1986) и что, по всей видимости, Херсонес столкнулся в Северо-Западном Крыму не со Скифией, а с Ольвией, вооруженный конфликт с которой, закончившийся победой Херсонеса, произошел около середины IV в. до н. э. (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 323-324).
185
Остановимся на этой проблеме более подробно. Начнем с последнего из предложений — конфликта между Херсонесом и Ольвией. Выше уже было показано, что присутствие ольвиополитов в Северо-Западном Крыму достоверно установлено лишь для одного памятника, поэтому если допускать вероятность конфликта, то его заранее следует ограничить рамками только этого поселения.
В процессе исследования четырехбашенного здания форта на Панском было выделено два стратиграфических горизонта, каждый из которых включает по два строительных периода. Только во втором, позднем, стратиграфическом горизонте фиксируются типично херсонесские особенности (Щеглов. 1985. С. 84). Следовательно, вопрос смены раннего стратиграфического горизонта поздним весьма важен. Оба строительных периода раннего стратиграфического горизонта, а также и сами стратиграфические горизонты отделены друг от друга слоями пожаров, правда, в обоих случаях из-за небольшой величины исследованных площадей невозможно сказать определенно, были ли пожары общими для поселения или локальными. Как было показано выше, первый пожар и смена строительных периодов должны быть отнесены не к рубежу первой и второй четвертей IV в. до н. э., а к концу второй четверти этого столетия. Учитывая продолжительность второго строительного периода, время второго пожара и соответственно смена стратиграфических горизонтов в таком случае приходится на середину или даже конец третьей четверти IV в. до н. э. Таким образом, третья четверть, а скорее — ее конец, является тем рубежом, после которого херсонесское присутствие начинает явно ощущаться в материале. Этот вывод находит прямое подтверждение и в материалах некрополя, где херсонесские погребальные традиции проявляются только в последней четверти IV в. до н. э. (Рогов. 1988. С. 89; 1989. С. 102: 1998).
О том, что поселение Панское I находилось под юрисдикцией Ольвии, а не Херсонеса, свидетельствует выписка из ольвийского декрета в честь двух афинян (НО 5), сделанная на обломке чернолаковой чаши (рис. 11.2), найденной при раскопках зольного холма на западной окраине У7 (Виноградов. 1990. С. 57-64). Сам документ, из которого сделана выписка, датируется издательницей временем не ранее середины IV в. до н. э. (Леви. 1958. С. 234. Табл. 1.1 ; НО 5). Близкая датировка — 40-30-е гг. — разносторонне обоснована Ю. Г. Виноградовым (Виноградов. 1990. С. 58). Издатель граффито справедливо отметил, что сама чаша по форме и тусклому лаку с большой натяжкой может быть отнесена к третьей четверти IV в. до н. э.: такие сосуды более характерны для конца этого столетия и для начала следующего, и что выписка имела raison d’etre только в том случае, если на эту территорию распространялась юрисдикция Ольвии (Виноградов. 1990. С. 56, 59).
186
Перечисленные выше доводы заставляют склоняться к мысли, что если конфликт между Ольвией и Херсонесом и имел место, то во всяком случае не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э., и вряд ли в него был вовлечен весь Северо-Западный Крым. Все свидетельства, приводимые для обоснования экспансии Херсонеса в Северо-Западный Крым еще во второй четверти IV в. до н. э., при ближайшем рассмотрении оказываются несостоятельными. Наиболее значимые из них — херсонесская фактория на Чайке, раннее размежевание земель в районе Евпаторийского маяка и новый период строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками (Виноградов, Щеглов. 1990. С. 322).
В действительности, здание фактории, открытое А. Н. Карасевым на Чайке, никогда и никем не было убедительно атрибутировано как херсонесское. Анализ отчетов, хранящихся в архиве ИИМК РАН, показывает, что стратиграфия здания не проста и не однозначна — это неоднократно подчеркивалось А. Н. Карасевым, и что первоначально здание фактории (термин, употребляемый автором раскопок условно) жилым не было, имело общественный характер. Ясно, что херсонесским оно именовалось первооткрывателем тоже условно.
Серьезным доводом херсонесского присутствия в Северо-Западном Крыму уже в конце второй четверти — середине IV в. до н. э., казалось бы, является открытие в 1983-1985 гг. размежевки в районе Евпаторийского маяка. Между тем авторы раскопок отмечают значительный разброс в датах и невозможность стратиграфически установить синхронность раннего материала устройству виноградника, поскольку керамические обломки происходят из подсыпок, грунт для которых брался из зольника поселения, существовавшего где-то поблизости (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). Однако главное препятствие для атрибуции этого виноградника как херсонесского состоит в том, что «по способу устройства и функциям он не имеет ничего общего с виноградниками Гераклейского и Тарханкутского полуостровов» (Колесников, Яценко. 1989. С. 58). В подробной публикации материалов раскопок хоть и отмечается, что по планировке маякский виноградник имеет много аналогий на Гераклейском и Тарханкутском полуостровах и интерпретируется как херсонесский (Колесников. 1998. С. 128), однако анализ выявляет его резкое отличие от плантажей, распространенных на Гераклейском полуострове. Более того, если принимать дату его возникновения — вторая четверть IV в. до н. э., то он синхронен размежевке Маячного полуострова, а учитывая, высокую степень стандартизации, свойственную херсонеситам при обустройстве своего земельного фонда, имеющиеся различия становятся просто необъяснимыми. Равным образом серьёзные различия выявляются и в сортах произраставшего здесь винограда, семена которого «по величине главных параметров существенно отличаются от се-
187
мян, обнаруженных на усадьбах Гераклейского полуострова» (Колесников. 1998. С. 136).
Противоречие не устраняется предположением о том, что освоение Северо-Западного Крыма производилось «силами переселенцев из Малой Азии и других областей греческого мира», который и принесли иные, чем в Херсонесе, сорта винограда, а помимо этого и «многие элементы материальной и духовной культуры ( в сельском хозяйстве, производстве, погребальной обрядности, культах и пр.)» неизвестные в самом Херсонесе. В действительности никаких данных ни о самих переселенцах, ни о принесенных ими элементах «новой» культуры не существует
В противоположность этому, виноградные плантации в окрестностях Калос Лимена и у мыса Ойрат демонстрируют удивительное единство как агротехнических приемов, так и семян именно с наделами Гераклейского полуострова (Щеглов. 1978. С. 111-112;Янушевич и др. 1982. С. 307 и сл.).
И наконец, остановимся на тезисе о новом периоде строительства в Керкинитиде с характерными херсонесскими признаками. В датировке начала этого периода не следует все же пренебрегать данными, полученными В. А. Кутайсовым в последние годы раскопок памятника. Специальное исследование этого вопроса показывает, что нарастание херсонесских черт в материальной культуре Керкинитиды происходит со времени не ранее конца третьей четверти IV в. до н. э. (Кутайсов. 1990. С. 157).
Попутно отметим, что постоянно упоминаемые в литературе херсонесские черты, херсонесские признаки в приложении к первой половине — середине IV в. до н. э. весьма призрачны. О таковых по существу можно говорить не ранее последней трети — последней четверти IV в. до н. э. Памятники Северо-Западного Крыма более раннего времени в Херсонесе просто не с чем сравнивать. Напомним, что в наиболее хорошо изученном северо-восточном районе Херсонеса в конце V и всю первую четверть IV в. до н. э. существуют заглубленные в скалу жилые и хозяйственные сооружения, подобные земляночным структурам (Золотарев. 1990. С. 68-76). Строительные остатки наземных сооружений второй четверти IV в. до н. э. дошли в столь плачевном состоянии, что ни о каких сопоставлениях со зданиями, подобными фактории на Чайке в Северо-Западном Крыму, не может быть и речи (ср.: Золотарев. 1988. С. 50-52; 1998. С. 26-35). И только с последней четверти IV в. до н. э., когда окончательно формируется облик города, ведется массовое строительство усадеб на Гераклейском полуострове, становится возможным выявление специфически херсонесских признаков. То же самое мы наблюдаем при анализе погребального обряда некрополей Северо-Западного Крыма, где вплоть до последней четверти IV в. до н. э. никаких погребальных традиций, присущих некрополю Херсонеса, не выделяется (Рогов. 1988; Кутайсов, Ланцов. 1989. С. 33-34).
188
К сказанному выше добавим, что большую часть IV в. до н. э. Херсонес оставался весьма небольшим как по площади, так и по числу проживающих в нем жителей полисом и вряд ли был способен на сколько-нибудь активные и серьезные самостоятельные мероприятия в достаточно удаленном Северо-Западном Крыму.
Для подтверждения раннего присутствия Херсонеса в Северо-Западном Крыму и его военного конфликта с Ольвией приводятся свидетельства нумизматики как Херсонеса, так и Керкинитиды (Щеглов. 1986. С. 170; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 326; Столба. 1990). Это и является побудительной причиной для краткого анализа и этой группы материала.
Обращение к столь большой, сложной и давно изучаемой теме, как монеты Херсонеса и Керкинитиды, требует определенных ограничений: мы не станем останавливаться на монетных выпусках Керкинитиды V в. до н. э., ограничимся лишь констатацией того, что на протяжении всего этого столетия монетное дело этого полиса развивалось и эвалюционировало в том же направлении, что и в других городах Северо-Западного Причерноморья, прежде всего Ольвии (Кутайсов. 1992. С. 138). Выпуск собственной монеты в Керкинитиде прекращается, очевидно, в последней четверти V в. до н. э., хотя литые монеты, выпущенные ранее, продолжают находиться в обращении еще и в начале IV в. до н. э. (Кутайсов. 1992. С. 140; Анохин. 1989. С. 82).
С начала IV в. до н. э. денежный рынок Керкинитиды заполняют иногородние монеты, ведущее место среди которых принадлежит монетам соседнего Херсонеса. Прекращение выпуска собственных денег не может трактоваться иначе, как утрата полисом самостоятельности. При каких обстоятельствах и по каким причинам это происходило, не ясно.
Прекращение выпуска полисных монет и нарастающее поступление денег из Херсонеса пытаются рассматривать как политическое подчинение Керкинитиды Херсонесу (Анохин. 1989. С. 84). Однако такое объяснение нельзя считать удовлетворительным, во-первых, потому, что литье монет в Керкинитиде заканчивается еще до того, как Херсонес начинает бить собственную монету. Кроме того, хотя в структуре денежной массы Керкинитиды представлены монеты многих выпусков Херсонеса, тем не менее анализ показывает, что поступление их началось не ранее второй четверти столетия. И во-вторых, не следует забывать, что Херсонес всю первую половину IV в. до н. э. по причине своей слабости и неразвитости вряд ли был в состоянии подчинить Керкинитиду.
Как известно, в конце V в. до н. э. город платил дань скифам, логичнее всего связать утрату политической независимости Керкинитиды в конце V в. до н. э. с ужесточением зависимости от какой-то местной скифской орды. Нельзя ли рассматривать предпринятую в это время реконструкцию оборо-
189
нительных сооружений города как неудавшуюся попытку противостоять утрате независимости?
Возобновление выпуска монет относят ко времени не ранее середины IV в. до н. э. Чеканных серий монет Керкинитиды известно в настоящее время всего пять, последовательность их такова: Крылатая Ника с пальмовой ветвью, надпись KARK/Лев, терзающий быка, под сценой терзания палица Геракла и надпись HERAKL; голова богини (Тихе?)/всадник на лошади, в руке копье, за спиной лук и колчан, внизу надпись KARKINI и одно из имен магистратов HERAK, HRONU, ROLUC; голова Геракла в львиной шкуре/ орел на молнии, внизу надпись KAPKINI, над орлом одно из имен магистратов НЕРАК, HPONI; бородатый скиф, сидящий на скале, надпись KEPKI/ конь, под которым одно из имен чиновников; голова Артемиды, надпись КЕР/ олень с поднятой ногой и в сокращении имя чиновника.
В результате анализа серии чеканных монет города в одну нумизматическую серию из двух номиналов были объединены монеты двух последних выпусков (Карышковский. 1953), впоследствии в такую же серию объединены монеты Тихе/всадник и голова Геракла/орел (Анохин. 1989. С. 83; Столба. 1989. С. 49-50; подробнее см.: Кутайсов. 1990. С. 154155). Таким образом, ныне выделяется всего три монетные эмиссии, причем большинство исследователей согласно с тем, что стилистически и технологически монетный чекан Керкинитиды неоднороден и состоит из двух эволюционно не связанных между собой групп — двух ранних эмиссий и одной поздней; между этими группами был хронологический разрыв (Кутайсов. 1990; 1992; Столба. 1990; ср.: Анохин. 1989. С. 82-85).
Отмеченная выше особенность монетного дела Керкинитиды не является единственной. Помимо дискретного характера чеканки монет, необходимо отметить и еще один давно известный факт, а именно отражение в сюжетах монет варварской тематики (Зограф. 1951. С. 160). Наряду с этим замечена зависимость монетного дела Керкинитиды от нумизматики Херсонеса (Бурачков. 1884. С. 90; Орешников. 1892. С. 6 и сл.; Зограф. 1951. С. 160). Допускается даже возможность чеканки керкинитидских монет на монетном дворе Херсонеса или в Керкинитиде, но под контролем херсонесских чиновников (Медведева. 1984. С. 47-49). Впрочем, типологические параллели в монетных чеканках обоих городов очевидно сильно преувеличиваются. По существу, они ограничиваются одним-единственным монетным типом (Анохин. 1989. С. 85), в то же время влияние монетной чеканки Гераклеи на монеты обоих городов остается оцененным недостаточно.
Как в датировке двух ранних выпусков монет Керкинитиды, так и в трактовке их сюжетов содержится немало противоречий. Отметим только некоторые из них. Первый, наиболее ранний выпуск керкинитидских монет с богиней победы Никой и львом, терзающим быка, очевидно, был немногочис
190
ленным. А. Н. Зограф обратил внимание на тождество фактуры этих монет с херсонесскими монетами серии из двух номиналов: квадрига/воин, двуликая голова/лев, терзающий быка (Зограф. 1951. С. 161). Отталкиваясь от этого наблюдения, А. М. Гилевич предположила, что упомянутые монеты обоих городов выпущены по случаю победы над скифами в ходе подчинения Северо-Западного Крыма Херсонесом после поражения и смерти Атея в 339 г. до н. э. (Гилевич. 1970. С. 6 сл.). Однако, придя к заключению, что притязания на Северо-Западный Крым встретили противодействие не скифов, а Ольвии, А. Н. Щеглов рассматривает одновременный выпуск монет с победными сюжетами в обоих городах как результат победы Херсонеса над Ольвией, на стороне первого выступила и Керкинитида (Щеглов. 1986. С. 170-171; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 326).
Между тем очевидно, что начало чеканки Керкинитидой собственной монеты не означает ничего иного, как обретение полисом политической самостоятельности. В таком случае получается, что именно Ольвия, победа над которой с помощью Херсонеса принесла независимость Керкинитиде, и была виновницей утраты самостоятельности полиса. Вывод логичный, но совершенно не соответствующий исторической ситуации, тем более что ни в сюжетах монет, ни в остальном археологическом материале нет даже намека на подобное развитие событий.
Пожалуй, стоит подробнее рассмотреть упоминавшиеся выше серии монет Керкинитиды и Херсонеса. В херсонесской серии монеты старшего номинала несут на лицевой стороне изображение квадриги с возницей, держащей в руке бич, а на оборотной стороне помещен коленопреклоненный воин со щитом. Изображения на обеих сторонах монеты не оригинальны, а заимствованы: как установлено еще А. В. Орешниковым, изображение лицевой стороны имеет параллели в сицилийских монетах, а сюжет оборотной имеет близкие соответствия в монетах Оронта и Кизика (Зограф. 1927. С. 380 сл.).
А. Н. Зограф считал связь лицевой и оборотной сторон очевидной, поскольку для них выбраны наиболее яркие типы агонистического характера, выпуск монет был осуществлен в связи с какими-то играми, проводившимися в городе по поводу неких торжеств (Зограф. 1927. С. 391).
В смысловом отношении младший номинал не связан со старшим. Истолкование изображения двуликой головы, по словам А. Н. Зографа, вообще представляет значительные трудности, он допускал возможность видеть в нем изображение какого-то местного двуликого божества. Типу оборотной стороны — сцене терзания львом быка — давались самые разнообразные толкования: эпизод боя животных на состязаниях, аллегорическое изображение; однако наиболее вероятно видеть здесь, по мнению А. Н. Зографа, реальный, может быть, легендарный мотив (Зограф. 1927. С. 396). Сопоставление сцены терзания на младшем номинале херсонесской серии с мо-
191
нетами Аканфа, Велии, династов юга Малой Азии и Кипра «убеждает в том, что при всей близости мотивов эти типы не дают полных аналогий херсонесским монетам... Гораздо более решительные аналогии дают золотые четырехугольные бляшки из Чертомлыка» (Зограф. 1927. С. 396). Думается, что это наблюдение нумизмата чрезвычайно важно.
Заметим, что вся серия монет совсем не обычна для херсонесской нумизматики: на обоих номиналах монет отсутствуют традиционно херсонесские монетные символы, зато имеющиеся изображения неизвестны в более раннее время и не повторяются в более позднее. Более того, одновременное или почти одновременное появление сюжета «благого» терзания на монетах сразу двух соседних городов — Керкинитиды и Херсонеса — притом, что этот сюжет в монетах городов Северного Причерноморья более не повторяется, представляет собой явление в высшей степени исключительное. Указание А. Н. Зографа на теснейшую стилистическую и композиционную связь изображений на керкинитидских и херсонесских монетах с бляшками из Чертомлыка открывает направление поиска смысловых аналогий.
Если сюжет терзания в греческом искусстве и нумизматике — явление эпизодическое, связанное главным образом с восточными влияниями, то в искусстве скифов, скифском зверином стиле, издревле это один из самых популярных и основных сюжетов, встречающихся на множестве вещей самого разного рода (Кузьмина. 1976; 1976а. С. 57, 61).
Думается, что обращение монетариев к кругу наиболее излюбленных скифских сюжетов, сочетание сцены «благого» терзания на оборотной стороне с изображением богини победы Ники на лицевой стороне монет первого выпуска Керкинитиды, возвещающего об обретении городом независимости, ясно и однозначно указывает, над кем одержана победа и от чьей зависимости город освободился. Повторение этого сюжета на монетах младшего номинала херсонесской серии, учитывая, что это единственный случай обращения херсонесских монетариев к варварской тематике, заставляет рассматривать Херсонес в качестве основного союзника и, быть может, участника освобождения Керкинитиды.
Возможно, что имеющееся под сценой терзания на монетах Керкинитиды изображение палицы Геракла — символа, постоянно присутствующего на монетах Гераклеи и Херсонеса, а также прямые заимствования изображений с монет Гераклеи времени тирана Сатира для второй серии керкинитидских монет (подробнее см.: Кутайсов. 1992. С. 149) указывают на заинтересованность, поддержку и, быть может, участие в освобождении Керкинитиды от варварской зависимости не только Херсонеса, но и Гераклеи.
При определении даты монет первой серии в Керкинитиде, а следовательно, и возвращении городу независимости, связь их с монетной серией Херсонеса имеет первостепенное значение. Херсонесские монеты с квадри
192
гой и связанные с ними монеты младшего номинала всеми без исключения исследователями относятся ко второй половине IV в. до н. э., однако в пределах этого временного отрезка более точная хронологическая привязка определяется по-разному.
Первоначально монеты с квадригой А. Н. Зограф относил к началу последней четверти или к предпоследнему десятилетию IV в. до н. э. (Зограф. 1927. С. 387). Впоследствии он отодвинул начало их выпуска на одно-два десятилетия назад, т. е. ближе к началу второй половины IV в. до н. э. (Зограф. 1951. С. 150). Этим же временем — 40-ми гг. IV в. до н. э. — датировала упоминаемые монеты А. М. Гилевич (Гилевич. 1970). В последние годы все большее признание находит датировка их серединой IV в. до н. э. (Анохин. 1977. С. 22—25; Щеглов. 1986. С. 170-171; Столба. 1990; Кутайсов. 1992), хотя некоторые нумизматы продолжают настаивать на более поздней датировке (Грандмезон. 1982. С. 35). Как видим, бесспорной хронологической привязки в пределах второй половины IV в. до н. э. для этих монет нет.
Говоря о выпуске монет с квадригой в Херсонесе в честь спортивных игр, проводившихся по поводу каких-то праздничных торжеств, А. Н. Зограф считал их выпуск недолговременным, но обильным (Зограф. 1951. С. 148), и это удачно подкрепляло его предположение об их праздничном характере. Дальнейшее изучение этой группы монет показало, что их чеканка осуществлялась на протяжении не менее двух десятков лет (Анохин. 1977. С. 24). Отсюда возникают вполне справедливые сомнения в том, что их победный характер связан с победой над Ольвией и подчинением Северо-Западного Крыма. Вряд ли даже самая блестящая победа сохраняла свою актуальность на протяжении почти четверти века. Скорее можно предполагать, что торжества и связанные с ними состязания проводились по какому-то иному поводу, сохранявшему свою значимость на протяжении длительного времени. Таким поводом могло быть заключение союза между Херсонесом и Керкинитидой, в котором какое-то участие могла принимать и Гераклея.1
На наличие союзных отношений (симмахии) между Херсонесом и Кер-кинитидой обращается в последнее время самое пристальное внимание (Столба. 1990; Виноградов, Щеглов. 1990). Действительно, только в этом контексте становятся понятными строки 18-20 присяги херсонеситов, в которых говорится о злоумышляющих или предающих или склоняющих к от
1 Херсонес и Керкинитида не единственные полисы в Северном Причерноморье, где в монетной чеканке отмечается влияние Гераклеи. Появление на монетах атрибутов или сюжетов, заимствованных с гераклейских монет, отмечается для монет Синдики, Фанагории, Феодосии, Тиры. Тесные параллели в монетной чеканке, по мнению исследователей, допускают наличие союзных отношений между Гераклеей и этими городами (см.: Максимова. 1956. С. 164; Minns. 1913. S. 559).
193
падению Херсонес, Керкинитиду, Калос Лимен и пр. Упоминание в этом перечне Херсонеса, отпадение которого, наряду с прочими пунктами, допускается как потенциально возможное, делает предположение о наличии некоего союза весьма вероятным (Столба. 1990. С. 152-153).
Вернемся все же к монетным выпускам Керкинитиды и Херсонеса. Как установлено, монеты с квадригой выпускались на протяжении длительного времени. Первоначально были выпущены монеты без буквенных обозначений, затем осуществлено три выпуска с сокращенными именами магистратов — HP; AY ; ΣΑ, последовавшие за этим выпуски несут на себе буквенные обозначения от А до Σ (Анохин. 1977. С. 44). Младший номинал серии выпускался очень короткое время, на этих монетах известны сокращенные имена тех же чиновников, что и на монетах старшего номинала (Зограф. 1927; Анохин. 1977. С. 22). Это означает, что совместный выпуск монет старшего и младшего номиналов осуществлялся только при этих чиновниках и очень короткое время и, что весьма важно, не с самого начала чеканки монет с квадригой. Если верна последовательность выпуска монет старшего номинала и верны наши рассуждения, то оказывается, что начало чеканки монет старшего и младшего номиналов не только не совпадают по времени, но и отчеканены, вполне вероятно, по поводу разных событий.
С херсонесскими монетами младшего номинала в типологической и смысловой взаимосвязи находятся монеты Керкинитиды первого выпуска с Никой и сценой терзания. По существу, они и только они являются победными монетами, поскольку в их сюжетах содержится недвусмысленное указание на то, по какому поводу они выпущены и над кем одержана победа, херсонесские же монеты лишь дублируют сюжет. Если монеты с квадригой отмечают заключение союза, то монеты с Никой в Керкинитиде и монеты с двуликой головой и сценой терзания в Херсонесе отражают первые реальные плоды деятельности этого союза.
В нумизматической литературе неоднократно подчеркивалась стилистическая близость монет Керкинитиды и Херсонеса, между тем она вполне понятна и объяснима. Приступая к возобновлению монетных выпусков, Керкинитида, естественно, не имела ни собственных мастеров, ни собственных резчиков штампов для монет. Весьма вероятно, что штампы для монет первых серий были заказаны уже известному и опытному резчику, не исключено, что тому же, кто резал штампы и для монет Херсонеса.
Таким образом, и монеты двух причерноморских городов не являются ясным и однозначным доказательством раннего проникновения Херсонеса в Северо-Западный Крым. Напротив, анализ монетных эмиссий показывает, что в середине — третьей четверти IV в. до н. э. Керкинитида и Херсонес выступали как союзники, очевидно, равные как по своему потенциалу, так и по своему значению.
194
В заключение экскурса в нумизматику Керкинитиды и Херсонеса приведем еще одно противоречие, которое не находит удовлетворительного объяснения в рамках существующих ныне концепций. Уже упоминалось, что в первой половине IV в. до н. э. денежный рынок Керкинитиды при отсутствии собственной полисной монеты начинает заполняться херсонесскими монетами. Динамику поступления херсонесской меди хорошо демонстрирует график, построенный на данных В. А. Анохина, — этот автор составил достаточно представительную выборку монет из раскопок 1981-1982 гг. (Анохин. 1988. С. 133-148). Подсчеты показывают, что несмотря на присутствие в слоях Керкинитиды наиболее ранних выпусков монет Херсонеса, реальное или более менее постоянное поступление денег из Херсонеса начинается не ранее второй четверти IV в. до н. э., по-видимому, в это время еще не вышли из обращения монеты первых выпусков. Из общего количества монет, выпавших в слои Керкинитиды, на вторую четверть IV в. до н. э. приходится чуть меньше 30% монет. Примечательно иное: почти две трети монет приходится на середину и первые десятилетия второй половины IV в. до н. э., т. е. на то самое время, когда в Херсонесе чеканилась серия монет с квадригой и воином. Таким образом, наряду с собственной чеканкой денежный рынок Керкинитиды наиболее активно заполняется и монетами, поступавшими именно из Херсонеса. Однако более всего удивляет резкий спад (почти в 10 раз) поступления херсонесской меди уже в следующей, последней четверти столетия, причем начало этого спада отчетливо прослеживается по монетам, чеканенным сразу же за монетами с квадригой. Из монетной чеканки Херсонеса начала III в. до н. э. в выборке представлена только одна-единственная монета (Анохин. 1988. Прил. 144). Последняя четверть IV — начало III в. до н. э., между тем, это то время, когда и Керкинитида и весь Северо-Западный Крым по всем данным уже прочно входят в состав Херсонесского государства.1
Среди возможных путей решения этой проблемы можно наметить три: 1 ) допустить, что неверно установлена последовательность и динамика чеканки монет в самом Херсонесе;
2) неверна хронология монетных выпусков Керкинитиды;
3) содержится существенный изъян в наших представлениях о структуре и характере самого Херсонесского государства второй половины IV — начала III в. до н. э., с одной стороны, и во взаимоотношениях Херсонеса с его провинциями в Северо-Западном Крыму — с другой.
1 Термин «территориальное Херсонесское государство", предложенный А. Н. Щегловым (Виноградов, Щеглов. 1990), явно неудачен, поскольку не отражает специфики и существа этого государственного образования. Кроме того, трудно представить себе государство без территории.
195
Первое направление решения этой проблемы маловероятно: при всех недостатках существующей хронологической схемы монетной чеканки Херсонеса она все же прошла проверку временем и в основных своих чертах увязывается с археологическими комплексами. Что касается монет Керкинитиды, то В. А. Анохин попытался снять противоречие, предложив передвинуть начало чеканки монет в Керкинитиде на 30-е гг. IV в. до н. э. и рассматривать всю чеканку полиса как непрерывный ряд выпусков (Анохин. 1988; 1989). Однако эти поправки не были приняты, встретив аргументированную критику (Кутайсов. 1990; 1992; Столба. 1990; Виноградов, Щеглов. 1990).
Остается третий путь. Полнота наших знаний о структуре, характере и даже размерах Херсонесского государства времени его наивысшего расцвета в конце IV — начале III в. до н. э., видимо, недостаточна. Решающее значение может иметь не столько близость материальной культуры Херсонеса и сельских поселений Северо-Западного Крыма — эта близость очевидна и выявляется по многим элементам, — сколько отличительные особенности в архитектуре, строительном деле, материальной культуре и погребальном обряде, которые могут быть выявлены. Надо думать, что картина взаимоотношений двух частей единого по сегодняшним представлениям Херсонесского государства в конце IV — начале III в. до н. э. была много сложнее той, какую мы знаем сегодня.
Как бы там ни было, но последняя четверть IV в. до н. э. — важное время в истории Северо-Западного Крыма. Именно в это время все побережье от озера Кизил-Яр на юге и практически до Перекопского перешейка на севере покрывается сетью приморских поселений (Щеглов. 1978. Рис. 8). Типологически они отличаются друг от друга, но топографически зависимость их от качества пригодной для обработки земли и от морского побережья бесспорна (Щеглов. 1978. С. 32). По-видимому, одновременно размежевываются значительные площади плодородных земель как в приморской части, так и в глубине Тарханкутского полуострова, которые по суммарным оценкам составляют около 200-300 км2, втрое превышая площадь, поделенную на участки вблизи самого Херсонеса (Щеглов. 1986. С. 173). При всей близости, отмечаемой для размежевки Гераклейского и Тарханкутского полуостровов, система расселения в Северо-Западном Крыму была все же принципиально иной.
С последней четверти IV в. до н. э. в материальной культуре поселений Северо-Западного Крыма прослеживаются многочисленные черты и культурные влияния, которые бесспорно связываются с Херсонесом. Не ранее последней четверти этого столетия проявляются херсонесские погребальные традиции и в некрополях Северо-Западного Крыма (Рогов. 1989. С. 102-103). Причем херсонесское влияние заметно нарастает к концу столетия и особенно в начале III в. до н. э.
196
Если опираться на массовый археологический материал, на твердо установленные факты, то безусловно придется признать, что экспансия Херсонеса в Северо-Западный Крым начинается не ранее последней четверти IV в. до н. э., причем под термином «экспансия» в данном случае следует понимать активное и широкомасштабное освоение земель Северо-Западного Крыма. Этот последний этап освоения эллинами Тарханкутского полуострова, который, без сомнения, может именоваться херсонесским, закончился в конце первой трети III в. до н. э. гибелью и разорением большинства сельских поселений.
5. Греки и варвары в Северо-Западном Крыму: оценка степени взаимовлияний
В отличие от Херсонеса, где в жизни эллинской общины варварские черты на общем культурном фоне проявляются незначительно, в Северо-Западном Крыму влияние варварских культурных традиций наложило на культуру эллинов значительно более глубокий отпечаток, что уже само по себе предполагает и более тесные связи с варварским миром.
5.1. Лепная посуда
Лепная керамика (рис. 14) в ранних слоях городища Керкинитиды свидетельствует о наличии контактов между жителями полиса и варварским окружением уже в раннее время — по меньшей мере с начала V в. до н. э. Определенно не известно, как попадали варвары в город: приводила ли их сюда экономическая необходимость или, как предполагают, молодые эллины выбирали себе жен в среде местного населения, несомненно одно — обломки лепной керамики служат индикатором присутствия в среде городских жителей выходцев из варварского окружения.
В Керкинитиде, как и во всем Северо-Западном Крыму, судя по находкам лепной керамики, в числе жителей были как представители скифского степного мира, так и выходцы из предгорного и горного Крыма. По словам Геродота, Керкинитида располагалась как раз на границе владений тавров и скифов, поэтому присутствие в городе носителей обеих культурных традиций вполне понятно. Тесная связь Керкинитиды с варварскими племенами, прежде всего со скифами, выражается в трибутивной зависимости города от них (возможно даже, зависимость была еще более жесткой), в сюжетах керкинитидских монет, в некоторых деталях погребального обряда (см.: Кутайсов, Ланцов. 1989), а не только в наличии варварской керамики в составе керамического комплекса города.
Лепная керамика других поселений Северо-Западного Крыма специальному исследованию не подвергалась, известно лишь, что в лепной посуде
197
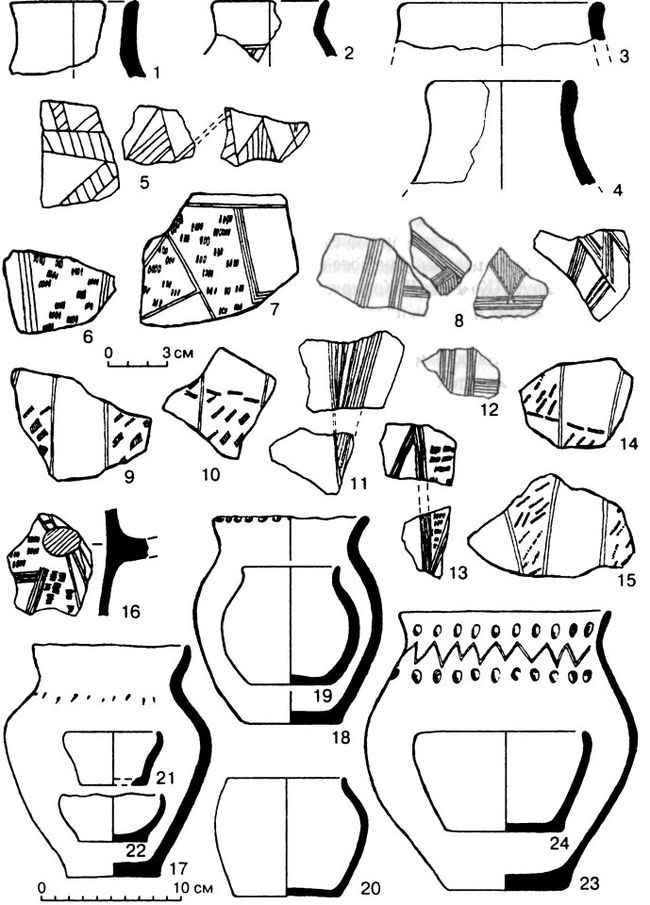
Рис. 14. Лепная керамика из поседений Северо-Западного Крыма
198
большинства из них, так же, как и в керамическом комплексе Керкинитиды, помимо форм, характерных для скифской лепной посуды, имеются обломки сосудов с резным и гребенчатым орнаментом.
Исключение составляет комплекс лепной посуды Панского I, подробно исследованный В. Ф. Столбой в его кандидатской диссертации «Херсонес и скифы в V—II вв. до н. э. Проблемы взаимоотношений» (Столба. 1991). На выводах этого исследователя необходимо остановиться подробно. В составе керамического комплекса поселения Панское I лепная керамика занимает значительное место, ее удельный вес, по подсчетам автора исследования, составляет от 48 до 52%, что, как показано им, намного выше, чем на большинстве сельских поселений ольвийской хоры; правда, он сопоставлял свои расчеты с керамикой позднеархаических поселений. Сопоставление удельных весов лепной посуды Панского и синхронных поселений ольвийской сельской округи (Козырка II, Козырка XII, Козырка XII — южная) оставляет в силе вывод В. Ф. Столбы, поскольку удельный вес лепной посуды на этих поселениях вдвое ниже, чем на Панском.
В ходе изучения форм и орнаментации сосудов В. Ф. Столбой установлено, что массив членится на три разновеликие группы лепных изделий. Первая, наиболее многочисленная группа состоит из сосудов, повторяющих хорошо известные в степной зоне Северного Причерноморья образцы скифской лепной керамики. Хронологически группа охватывает весь период существования памятника.
Лощеные и нелощеные сосуды, большинство из которых украшено врезным или гребенчатым орнаментом, составляют вторую группу лепных изделий. Количественно эта группа во много раз меньше первой. Формы сосудов и типы орнаментации позволили связать посуду второй группы с керамикой позднего этапа кизил-кобинской культуры. Появление сосудов этой группы на поселении В. Ф. Столба датирует серединой IV в. до н. э. и связывает с проникновением в Северо-Западный Крым херсонеситов и перемещением ими в этот район зависимого таврского или тавро-скифского населения. Последний вывод принять невозможно хотя бы потому, что в середине IV в. до н. э. зависимость окрестных варваров от Херсонеса представляется весьма проблематичной и не подтверждается никакими источниками.
Вместе с тем пример керамического комплекса Керкинитиды, где кизил-кобинская керамика появляется задолго до основания Херсонеса, позволяет осознать поспешность подобных выводов. Вероятность того, что и на Панском I сосуды второй группы могли появиться ранее середины IV в. до н. э., очень высока. Следует учитывать степень исследованности напластований и величину раскрытых площадей памятника: так, исследованные площади раннего поселения составляют десятки квадратных метров, в то время как позднего поселения — тысячи.
199
Третья группа сосудов поселения Панское I — подражания греческой кружальной керамике.
Установлено, что наибольшее разнообразие форм и типов сосудов характерно отнюдь не для позднего этапа существования памятника, а для времени середины — третьей четверти IV в. до н. э. В дальнейшем лепная керамика, по словам автора исследования, образует на поселении вместе с гончарной единый комплекс посуды с четкой регламентацией функций. Лепная предназначалась исключительно для приготовления пищи и потому представлена почти исключительно горшками и кастрюлями. К концу IV — началу III в. до н. э. основная масса типов лепной посуды выходит из употребления.
Напомню, что и в Керкинитиде наблюдается аналогичное явление. Так, лепная чернолощеная керамика кизил-кобинского типа встречается преимущественно в слоях от начала V в. до н. э. до середины — третьей четверти IV в. до н. э., в более позднее время находки ее единичны (Кутайсов. 1987. С. 35). А в конце IV в. до н. э. круг форм ограничивается преимущественно горшками степного скифского облика. Таким образом, картина получается прямо противоположная той, какую предполагает В. Ф. Столба.
С последней четверти IV в. до н. э., когда Северо-Западный Крым включается в состав Херсонесского государства, не только не появляется никакого разнообразия в формах лепной посуды, но как раз наоборот — выходят из употребления ранее существовавшие типы, а остается один единственный специализированный тип — горшок для варки пищи. В этом случае, если данное явление рассматривать как свидетельство эллинизации варваров, живших на поселении, то это одновременно является и свидетельством утраты ими прочных связей со своими единоплеменниками.
5.2. Погребальный обряд
Для выявления иноэтничных элементов в среде эллинских жителей, помимо лепной керамики, постоянно привлекаются данные погребального обряда. Для Северо-Западного Крыма мы располагаем достаточным количеством материалов по погребальному обряду, правда, не всегда равноценных.
Курганные некрополи выявлены у нескольких поселений и несомненно принадлежали их жителям. Помимо Керкинитиды курганные некрополи известны у поселения Чайка, Панское I, Караджа, Калос Лимен, Кульчук. Систематически раскапывались лишь могильники у двух первых поселений, небольшие работы проводились на Кульчукском некрополе. В последние годы ведутся раскопки некрополя Калос Лимена, но результаты этих работ в научный оборот пока не введены и, таким образом, доступными для анализа остаются материалы трех памятников — Керкинитиды, Панского и Чайки.
Захоронения на всех трех некрополях совершались как в обычных грунтовых могилах, так и под курганами. К сожалению, степень ограбленности
200
и разрушения могил в Керкинитиде и на Чайке такова, что не всегда возможно проследить и сопоставить все детали погребального обряда. Несмотря на это, ряд общих черт в этих некрополях очевиден: схожесть некоторых типов гробниц, надгробий, наличие детских захоронений в амфорах, скорченные захоронения и др. Вне всякого сомнения, основная масса захоронений совершена с соблюдением норм погребальной практики эллинов. К числу таковых обычно относят восточную ориентировку погребенных, вытянутое на спине положение костяков, детские захоронения в амфорах, кремированные погребения, некоторые типы погребальных сооружений, не имеющие аналогов в варварской среде (например, сырцовые склепы), определенные категории погребального инвентаря, не свойственные варварским захоронениям в степной зоне Северного Причерноморья (лекифы, стригили и т. п.).
Наряду с этим имеется ряд деталей, которым нет надежного объяснения в рамках греческого погребального обряда. К числу таковых в некрополях Северо-Западного Крыма следует относить сам факт захоронения под курганными насыпями, подбойные могилы, наличие в могилах оружия, заупокойной пищи, скорченное положение костяков. Но прежде чем остановиться подробнее на каждой из этих черт, сделаем ряд предварительных замечаний.
Первое из них касается самого греческого погребального обряд, которого, как известно, в строго регламентированном для всего греческого мира виде не существовало. Существовали, очевидно, определенные религиозномагические представления, в соответствии с которыми совершалось захоронение. Но обряды, принятые в погребальной практике различных греческих полисов, не были тождественными (Plut. Sol., V). Различия в обряде могут фиксироваться не только в могильниках разных полисов, но и в пределах одного городского некрополя — между погребениями, относящимися к разным социальным группам. По этим причинам поиск аналогий нашим захоронениям в некрополях греческих городов не всегда бывает удачным и, тем более оправданным с методической точки зрения. Мы знаем немало примеров, когда отдельным особенностям какого-либо некрополя аналогии подбираются в различных частях античного мира; так, Ю. И. Козуб находит аналогии могилам с деревянными конструкциями в Аттике, подбойным могилам — на Кипре и в Малой Азии, а такой детали погребального обряда, как присутствие оружия в могилах, — в некрополях Самоса, Родоса, Испании и Южной Франции (Козуб. 1974). Нельзя серьезно считать, что ольвиополиты перенимали способы устройства могил и помещения в могилы умерших от жителей всех перечисленных районов античного мира.
Второе наше замечание связано именно с тем, что те или иные отклонения от условно принятой нормы греческой погребальной практики находят убедительное объяснение, если привлекать не далекие и, кстати, весьма разнородные аналогии из практики жителей материковой и островной Гре-
201
ции, а рассматривать их в комплексе с теми материалами, которые предлагает варварское окружение.
В такой постановке вопроса многих смущает открывающаяся возможность прямой этнической атрибуции погребений. Действительно, если, скажем, мы признаем, что в некрополе греческого полиса та или иная черта погребального обряда имеет варварское происхождение, не означает ли это, что все могилы, где эта черта выражена явно, следует считать негреческими? Нет, не означает. Процесс заимствования не столь прямолинеен. Мы никогда или почти никогда по контексту погребения не сможем однозначно и с полной достоверностью ответить на вопрос об этносе погребенного. Поскольку этническая принадлежность выражается не только и даже не столько в культуре, сколько в самосознании. Культурные взаимовлияния между народами приводят к тому, что отличительных этнических особенностей становится все меньше; они при необходимости, при существующей потребности быстро становятся достоянием других народов (Корпусова. 1983. С. 91 ). Это особенно актуально для тех зон, где контакты между народами имеют устойчивый и длительный характер. И, наконец, третье — материалы, которыми мы располагаем по Северо-Западному Крыму, относятся к той поре, когда варварское население в Северном Причерноморье находилось в соприкосновении с греческим миром уже более двух столетий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нам при анализе варварских элементов в некрополях Северо-Западного Крыма приходится выходить за те территориальные и хронологические рамки, которые обозначены в названии нашей темы.
5.3. Подбойные могилы
Как уже говорилось, в некрополе Панское I подбойные могилы принадлежат к раннему его периоду и составляют характерную его особенность. В V-IV вв. до н. э. обычай захоронения умерших в подбойных могилах ограничивается исключительно районом Северо-Западного Причерноморья — Ольвией и близлежащей территорией. В других греческих центрах Северного Причерноморья этот тип могил неизвестен — на Боспоре они появляются не ранее конца III в. до н. э. В Херсонесе наиболее ранние подбойные могилы датируются II в. н. э. и по конструкции отличаются от подбоев классического и эллинистического времени. Локальность их, таким образом, очевидна. Проникновение их в Северо-Западный Крым следует связывать с перемещением каких-то групп населения с территории Ольвийского полиса (Щеглов, Рогов. 1985)
Между тем появление подбойных могил в самом ольвийском некрополе оценивается неоднозначно. Существуют два различных представления о происхождении этого типа могил. Одни исследователи склонны видеть
202
в них проявление норм греческой погребальной обрядности. Так, Ю. И. Козуб вслед за Б. В Фармаковским связывает ольвийские подбойные могилы с подземными погребальными сооружениями Малой Азии и Кипра и считает этот тип могил ионийским (Козуб. 1974. С. 119). Однако связь между указанными группами могил не столь однозначна, они демонстрируют совершенно разные конструктивные особенности; общим является, пожалуй, только сам принцип захоронения в подземной камере, но устройство могил разительно отличается.
Против того, что этот тип могил ионийский и завезен в Ольвию первопоселенцами, свидетельствует их отсутствие в наиболее раннем пласте погребений, Отсутствуют они и в некрополе Березанского поселения, равно как и в некрополях всех других поселений, основанных ионийцами на северном берегу Понта. Приходиться, таким образом, признать, что ольвийские подбойные могилы не имеют аналогов не только в Северном Причерноморье, но и в иных частях греческого мира и не имеют связи с погребальными традициями ионийцев метрополии.
Другая версия происхождения подбойных могил в Ольвии опирается на высокую степень концентрации этого типа могил в Побужье и Поднепровье, ближайших к ольвийскому полису степных скифских районов. Именно это обстоятельство привело некоторых ученых к заключению о заимствовании конструкции подбойных могил в Скифии и связи этих могил со скифскими элементами в населении города (Гайдукевич, Капошина. 1951; Капошина. 1959).
Между тем есть все основания отвести и эту версию. В раннескифское время на всей территории степного Причерноморья известно всего три подбойных могилы, датируются они второй половиной VI в. до н. э. За все следующее столетие захоронений в таких могилах совершено только пять.
На фоне единичных могил в степной части Северного Причерноморья ольвийский некрополь демонстрирует устойчивую традицию захоронения в подбойных могилах. Так в последней четверти VI — начале V в. до н. э. их известно 12, в первой половине V в до н. э. в общей массе погребальных сооружений они составляют третью часть, а во второй половине столетия уже половину. Укажем также, что в могилах этого типа, датированных архаическим временем, не встречено вещей, которые традиционно связывают со скифской культурой. Подобные вещи изредка встречались при раскопках некрополя, но в иных типах погребальных сооружений.
Есть все основания считать, что сам тип погребального сооружения в виде впускной ямы с подбоем в одной ( или обеих) длинных стенках является изобретением самих ольвиополитов и сложился непосредственно в Ольвии.
О том, что это открытие было весьма удачным, говорит факт неизменности конструкции могилы на протяжении довольно длительного времени. Лишь
203
к концу IV в. до н. э. появляются модификации типа, впрочем, весьма редкие. Более того, в IV в. до н. э. Ольвия становится своеобразным центром распространения этого типа могил — с начала столетия подбойные могилы появляются на отдаленных территориях (Панское, Кошары), а со второй четверти столетия и в некрополях ближайшей сельской округи.
Не следует исключать и того, что широкое распространение подбойных могил в степной части Северо-Западного Причерноморья в IV в. до н. э. происходило под непосредственным воздействием погребальных традиций ольвиополитов, которые наряду или вслед за возрастающим импортом проникали в среду причерноморских варваров.
5.4. Захоронения с оружием
В некрополе Панское они немногочисленны, да и сами предметы вооружения не отличаются разнообразием. Наконечники стрел найдены в 10 могилах, в трех из них лежало по одному экземпляру, в остальных могилах встречены наборы от 2 до 13 штук. Наконечники копий открыты лишь в одной могиле; также единична находка в могиле железного боевого топора-молотка. Наконечники стрел и копий найдены и в могильнике поселения Чайка, но здесь их значительно меньше, что объясняется, очевидно, ограбленностью могил и большим разрушением.
Для большинства могильников греческих городов в Северном Причерноморье находки оружия в могилах — явление обычное, причем количество могил с оружием подчас весьма значительно (Цветаева. 1951; Кастанаян. 1959а; Силантьева. 1959; Сорокина. 1957; Козуб. 1974. Белов. 1948; Скуднова. 1962). Так что в этом отношении некрополи Северо-Западного Крыма не являются исключением. Некоторые исследователи считают, что оружие в могильниках прямо указывает на негреческий этнос погребенного (Капошина. 19506). Более осторожные с различными оговорками считают, что наличие оружия в могилах связано с определенным влиянием местной традиции (Гайдукевич. 1959. С. 186; Сорокина. 1957. С. 20-21). Отправной точкой рассуждений сторонников этой интерпретации служит отсутствие погребений с оружием в Греции и Ионии; этот обычай, распространенный в Греции в раннее время, практически исчезает к VI в. до н. э. (Kurts, Boardman. 1971. P. 207). Находки оружия в могилах в более позднее время исключительно редки (Boehlau. 1898. Pl.XV; 4; Poulsen. 1905. S. 27). Сам по себе факт отсутствия оружия в могилах некрополей Греции еще не может служить основанием для констатации негреческого происхождения погребенных с оружием в Северном Причерноморье. Завораживающее действие оказывает, очевидно, не столько факт присутствия оружия в могилах, сколько его вид, совершенно тождественный образцам, распространенным по всей территории степной Скифии. Оружие греческих форм встречается исклю
204
чительно редко. Другая группа исследователей, опираясь на те же самые аналогии в некрополях Греции и Ионии, утверждает обратное — могилы с оружием в Северном Причерноморье принадлежат грекам (Скуднова. 1960. С. 72; Козуб. 1974. С. 120; Лапин. 1966. С. 208).
Позиция этих исследователей представляется наиболее оправданной, хотя приводимые ими аргументы и не являются бесспорными. Объяснение, очевидно, следует искать в конкретной ситуации. Колонисты в Северном Причерноморье столкнулись с сильными и воинственными местными племенами, контакты с которыми, судя по археологическому контексту, далеко не всегда были мирными. Трудно себе представить, что в этих условиях колонисты не обладали совершенно никаким оружием. К этому следует добавить, что конкретной ситуацией продиктована полная смена характерного греческого вооружения (образцов типично греческого оружия в городах Северного Причерноморья известны считанные единицы) на типично скифское. Имеющиеся материалы характеризуют вооружение античных колоний уже на самом раннем этапе их истории как скифское. Более того, есть все основания утверждать, что греческие города наладили выпуск оружия скифского образца не только для собственного вооружения, но и обеспечивали им окружающих варваров. Именно этой конкретной ситуацией, и ничем иным, следует объяснять присутствие оружия в могилах. Разумеется, изменения в системе вооружения греческих колонистов происходили под прямым и непосредственным влиянием военного дела варваров, что лишний раз подчеркивает открытость греческой общины, поставленной в специфические условия.
Связать наличие оружия с каким-то определенным типом гробниц не удается. Предметы вооружения встречаются в самых разных типах могил, как с сопровождающим погребенного инвентарем, так как и в безынвентарных и даже в детских и женских захоронениях (Масленников. 1981. С. 34). Следовательно, вряд ли стоит принимать наличие в могилах оружия за непосредственное указание на определенный этнос.
5.5. Заупокойная пиша, подстилки в могилах
Подстилки в виде слоя морской травы зостеры на дне могил в некрополе Панское фиксировались неоднократно. Они встречены в разных по конструкции погребальных сооружениях. В некрополе Чайка такие подстилки неизвестны, но зафиксированы подсыпки из суглинка, что представляется в функциональном отношении абсолютно тождественным. Подстилки из различных материалов, а также подсыпки из песка, ракушек или мелких камней выражали, в сущности, заботу об умершем, создание элементарных «удобств* в загробной жизни, вне зависимости от этнической принадлежности (Лапин. 1966. С. 205). Обычай этот был характерным как для окру-
205
жающих варварских племен, так и для жителей греческих городов в Причерноморье; думается, что ошибочно было бы придавать ему какую-либо этническую окраску. И этот обычай характерен для разных типов гробниц; он не связывается с каким-то одним определенным типом или типами и не зависит от наличия в могилах сопровождающего инвентаря.
С этих же позиций следует оценивать и наличие в могилах жертвенной пищи. К сожалению, трудно оценить действительную распространенность этой детали обряда, так как огромный массив костного материала из могил (особенно из раскопок прошлого века и начала нынешнего) остался неопределенным. В некрополе Панское I мясная заупокойная пища в виде остатков костей мелкого рогатого скота зафиксирована в единичных могилах. К этой же категории мы относим те могилы — их значительно больше, — где были обнаружены раковины съедобных моллюсков. Обычай снабжать покойного напутственной пищей был распространен в среде варварских племен весьма широко, не только у скифов, но и у меотов и сарматов (Граков. 1971. С. 46; Смирнов. 1964. С. 100). Остатки погребальной жертвы неоднократно фиксировались и в некрополях собственно Г реции в архаическое время (Young. 1951). Позднее этот обычай затухает (Poulsen. 1905. S. 22; Kubier. 1976). Думается, что ясно, насколько этот обычай был широко распространенным у разных народов. По этой причине, очевидно, было бы неверным безоговорочно относить те могилы, где встречена эта деталь обряда, к группе негреческих.
В некрополе Панское раковины съедобных моллюсков обнаружены не только в могилах с обычным набором погребального инвентаря, но и в тех могилах, где инвентаря не было. Можно, очевидно, говорить о том, что люди даже с весьма скромным достатком старались снабдить умершего заупокойной пищей. Этот акт, а также выстилание дна могил, естественно, являются не просто утилитарными действиями, но и глубоко сакрализованными в своей основе. Вместе с тем, будучи широко распространенными у многих народов, вряд ли они могут служить серьезным указанием на этнос погребенного.
5.6. Погребения в скорченном положении
В некрополе Панское лишь 7% погребенных были положены в скорченном положении, в некрополе Чайка количество скорченных захоронений тоже невелико. Небольшой процент скорченных захоронений неоднократно отмечался исследователями практически во всех греческих северопричерноморских центрах: на Березани (Капошина. 19566. С. 222), в Ольвии (Козуб. 1974. С. 20-22), в Пантикапее (Кастанаян. 1959а. С. 283; Цветаева. 1951. С. 67), вФанагории (Кобылина. 1951. С. 239), в Нимфее (Грач. 1981. С. 260), в Херсонесе (Белов. 1938. С. 165-195); известны они и в Западном Причерноморье (Аполлония. С. 270).
206
Вопросы этнической интерпретации погребенных в скорченном положении затрагивались во многих работах, но, несмотря на это, проблема остается открытой и остро дискуссионной. Если суммировать взгляды исследователей, то обозначатся две противоположные точки зрения. Согласно первой из них, захоронения в скорченном положении рассматриваются как захоронения представителей варварской части населения городов. Так, скорченные захоронения в некрополях азиатского Боспора связываются с представителями синдо-меотского населения (Масленников. 1981. С. 29), в Херсонесе — таврского (Белов. 1948. С. 31-32; Стржелецкий. 1948. С. 95), в Ольвии — скифского (Капошина. 1941. С. 116), в Аполлонии — фракийского (Аполлония. С. 13). Сторонники этой точки зрения, пользуясь формально-типологическим методом, отмечают отсутствие таких захоронений в синхронных некрополях Греции.
Этот обряд был распространен как в Греции, так и в Малой Азии в более раннее время, но уже в эпоху архаики он исчезает и встречается лишь как исключение (Kubier. 1959. S. 68; Young. 1951. P. 87-102; Poulsen. 1905. S. 27). Имеющиеся захоронения в скорченном положении на варварских территориях, по их мнению, неопровержимо свидетельствуют в пользу варварской принадлежности захоронений в скорченном положении и в некрополях северопричерноморских центров. Заметим от себя, что оба приведенных тезиса, будучи, по сути дела, лишь чистой декларацией, отнюдь не являются доказательствами.
Сторонники противоположной точки зрения считают захороненных в скорченном положении греками (Козуб. 1974. С. 23; Лапин. 1966. С. 217-220; Кадеев. 1973. С. 108). Они обращают внимание на то, что и для варварских территорий этот обряд не был характерным (Лапин. 1966. С. 218) (разумеется, исключая Горный Крым), а также на то, что скорченные захоронения расположены в некрополях рядом с вытянутыми (иногда даже оба типа погребения встречаются в одной могиле), что большинство из них ориентировано на восток и некоторые снабжены погребальным инвентарем. Известны также и детские скорченные захоронения в амфорах. Хотя доводы сторонников этой точки зрения и более серьезны, но и они не оставляют впечатления однозначности.
Наша краткая сводка отнюдь не исчерпывает всех аргументов «за» и «против» сторонников обеих концепций. Мы не ставили своей целью подробный разбор их аргументов. Это является задачей специальной работы. По нашему мнению, ни одна из сторон, опираясь на одну и ту же сумму фактов, не в состоянии привести убедительных и однозначных доказательств своей правоты. Как было показано в разделе о варварских чертах в Херсонесе, детальный анализ материалов некрополя не позволяет даже в культурном плане вычленить подобные погребения из общего массива захоронений и связать
207
их с безусловно варварскими влияниями. Следует уже наконец признать, что попытки этнической интерпретации скорченных захоронений в античных некрополях бесперспективны.
5.7. Курганные насыпи
Взору путешественника прошлого века, подъезжающего к Ольвии или Пантикапею, открывалась величественная картина целых полей курганных насыпей, от которых в разные стороны разбегались вдоль древних дорог цепочки курганов; эти два города в Северном Причерноморье не были исключением. Сочетание грунтовых и подкурганных погребений — специфическая особенность большинства причерноморских городов, кроме, пожалуй, Херсонеса. Любопытно, что некрополи ранних поселений, по крайней мере до V в. до н. э., были грунтовыми, курганные насыпи рядом с ними появляются не ранее этого столетия, а большинство курганов в составе античных некрополей датируется IV в. до н. э.
Нет никаких оснований сомневаться в том, что сама идея, принцип сооружения земляного холма над могилой был известен грекам — сведения о подобном устройстве погребальных сооружений сохранились в письменных источниках (Нот. IL, XXIII; Thuc. Hist., II), однако в самой Греции, как островной, так и материковой, некрополи все же большей частью были грунтовыми. Напротив, у варварских племен Северного Причерноморья способ захоронения умерших в грунтовых бескурганных могилах совсем не получил развития — их могильники исключительно курганные, именно это обстоятельство и заставляет считать традицию сооружения курганных насыпей в греческих городах Северного Причерноморья заимствованной у окружающих варваров.
Захоронения в каменных ящиках под курганами, окруженными кольцевой обкладкой из камня, известны в степях к северу от Евпатории в VI-V вв. до н. э. (Ольховский. 1978; 1982). К этой же группе принадлежит и курган Кара-Меркит (Дашевская. 1981).
Устойчивая для всего региона традиция — применение камня. Характерно, что камень применялся для сооружения различных типов гробниц, а также и при возведении курганных насыпей. На близость некоторых типов каменных гробниц степной части Восточного Крыма могилам в боспорских некрополях обратила внимание Э. В. Яковенко (Яковенко. 1970. С. 132). С подобной ситуацией мы сталкиваемся и в Северо-Западном Крыму. Особенно отчетливо это стало проявляться в последние десятилетия в связи с исследованием степных курганов Тарханкутского полуострова и Центрального Крыма.
В IV в. до н. э. количество курганов с каменными конструкциями и погребальными сооружениями из камня в степной части Западного Крыма замет
208
но увеличивается (Ольховский, Храпунов. 1990. С. 52), именно в это время появляется такой тип каменных гробниц, как склеп с дромосом. Каменные склепы открыты в могильниках у с. Наташино, Крыловка (бывш. Ойбур); они почти в точности повторяют планировку и размеры каменных склепов некрополя Чайка и склепов Беляуса. К ним типологически близки гробницы из курганов Восточного Крыма (Яковенко. 1970). Таким образом, выделяется целая группа погребальных сооружений чрезвычайно близких, если не сказать идентичных, по своему устройству и планировке — они известны как в степи, так и в античных сельских некрополях Северо-Западного Крыма.
В большом количестве в степной части Крымского полуострова присутствует и такой тип гробниц, как каменные ящики и плитовые гробницы. Раскопки у с. Наташино, Солдатское, Шалаши, Крыловка (Ойбур), Суворово, Снежное (Сакский р-н), Крыловка (Первомайский р-н), Вишневое, Григорьевка позволяют утверждать, что на всем протяжении V и IV вв. до н. э. эти типы погребальных сооружений бытуют непрерывно. В. С. Ольховский, рассматривая материалы Колосковского могильника, связал их с группой скифо-кизил-кобинского населения и отнес начало формирования этого населения к VII—VI вв. до н. э. (Ольховский. 1982. С. 77).
Однако одно дело проследить истоки традиций, выявить типологическое сходство погребальных сооружений античных некрополей и степных могильников и другое — выяснить, кто был похоронен в конкретном погребальном сооружении античного некрополя.
Установлено, что в некрополях Северо-Западного Крыма захоронения совершались в могилах как перекрытых курганными насыпями, так и в грунтовых бескурганных; из этого между тем еще не следует, что под курганами похоронены варвары, а в бескурганных могилах — греки. В типах и способах устройства гробниц, в составе погребального инвентаря и в его размещении в могилах, в положении и ориентировке умерших подкурганные захоронения отличий от бескурганных не имеют. Анализ погребального обряда приводит к твердому убеждению: погребения, совершенные как в грунтовых гробницах, так и в подкурганных, однозначной этнической интерпретации не поддаются. Этот вывод справедлив не только для некрополей Северо-Западного Крыма, но и для большинства некрополей городов Северного Причерноморья.
В некрополях Северо-Западного Крыма не выявляется каких-либо локальных изолированных групп погребений с четко выраженными варварскими чертами погребального обряда. Напротив, традиции, уходящие корнями в варварский мир, варварское происхождение которых несомненно, в IV в. до н. э. оказываются уже растворенными в нормах и правилах эллинской погребальной обрядности. Перед нами не просто набор разрозненных по своему происхождению элементов обряда, норм, традиций, а единая ело-
209
жившаяся (или складывающаяся) система. Культурное поле даже небольших по численности эллинских общин принимало и довольно быстро усваивало местные культурные традиции, в результате чего происходило сложение иного, отличного от первоначального погребального обряда, остающегося все же по существу эллинским, в том смысле, в каком можно назвать эллинами жителей прибрежных поселений Северо-Западного Крыма.
Смешение варварских и эллинских традиций как в повседневной жизни, так и в нормах погребального обряда закономерно приводит к заключению о культурной, соответственно, и этнической неоднородности населения. Однако вывода о том, что на поселениях Северо-Западного Крыма проживало гетерогенное население, явно недостаточно. Судя по тому, что в материальной культуре поселений и в погребальном обряде жителей не удается вычленить никаких изолированных, локальных явлений, а традиции, истоки которых достаточно надежно прослеживаются в варварском мире, оказываются органично включенными в канву эллинской культуры, речь, по-видимому, должна идти не столько о гетерогенности (разнородности) населения, сколько о том, что это население было в значительной степени метизированным.
5.8. Основные выводы
Подведем итоги. Западный Крым среди районов колонизационной деятельности эллинов в Северном Причерноморье представляет собой особое, уникальное явление. Действительно, природные различия между южной и северной частями Западного Крыма способствовали сложению здесь ко времени появления первых греческих колонистов своеобразной демографической ситуации. В Северо-Западном Крыму постоянного оседлого населения не было, эта территория была зоной более или менее регулярных сезонных кочевок степных варваров. Предгорный и горный Юго-Западный Крым был заселен оседлыми или полуоседлыми племенами горцев. Иными словами, греческие колонисты встретились в Западном Крыму с двумя культурно, хозяйственно и этнически различными варварскими образованиями. На примере этих двух районов удается проследить существенные различия в колонизационной практике эллинов и в их отношениях с местными варварами.
Керкинитида, основанная в степном Северо-Западном Крыму, оказалась в условиях, близких к тем, в которых существовали поселения греков в Северо-Западном Причерноморье. Судя по всему, первые полтора-два столетия своего существования город развивался в том же направлении, что и другие города левого Понта, а взаимоотношения Керкинитиды с местными варварами складывались так же, как и в Ольвии.
Для сколько-нибудь полной характеристики отношений греков и варваров на протяжении V в. до н. э. в Юго-Западном Крыму, к сожалению, дан-
210
ных явно недостаточно. Однако совершенно очевидно, что с самого начала появления эллинского поселения на месте будущего Херсонеса его отношения с туземцами отличались от тех, которые складывались между греками и варварами на Боспоре или в Северо-Западном Причерноморье. Отличия отчетливо выражаются в отсутствии у варваров Крымских гор и предгорий импортов и, пожалуй, в том, что это раннее поселение на берегу Карантинной бухты за целое столетие своего существования так и не приобрело ясно выраженных признаков города.
Таким образом, еще до появления в Западном Крыму дорийских греков и еще до начала освоения ими этого района по «модели дорийского образца» греко-варварские взаимоотношения здесь имели определенный оттенок своеобразия. Еще более резкие различия проявляются в следующем столетии, особенно во второй его половине и в начале III в. до н. э., когда община херсонеситов приступила к активному и широкомасштабному освоению земель в Западном Крыму и расширению границ полиса.
Археологические материалы со всей очевидностью свидетельствуют об отсутствии в Херсонесе сколько-нибудь существенных групп варварского населения, об отсутствии культурных влияний со стороны варварского окружения и, что весьма существенно, о полной невосприимчивости каких-либо инородных культурных традиций самой общиной херсонеситов.
Совершенно иная картина предстает перед нами на поселениях Северо-Западного Крыма. Здесь в культуре отчетливо прослеживается влияние варварских традиций, идет процесс активного усвоения инокультурных элементов, включение их в культурное пространство эллинских общин. Это позволяет с достаточной степенью вероятности предполагать, что население этой части Западного Крыма было смешанным, метизированным, хотя общий культурный фон и оставался совершенно эллинским.
Подготовлено по изданию:
Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху / отв. ред. К. К. Марченко. — СПб. : Алетейя, 2005. — 463 с. ; ил. — (Серия «Античная библиотека. Исследования»).ISBN 5-89329-800-0
© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005
© «Алетейя. Историческая книга», 2005