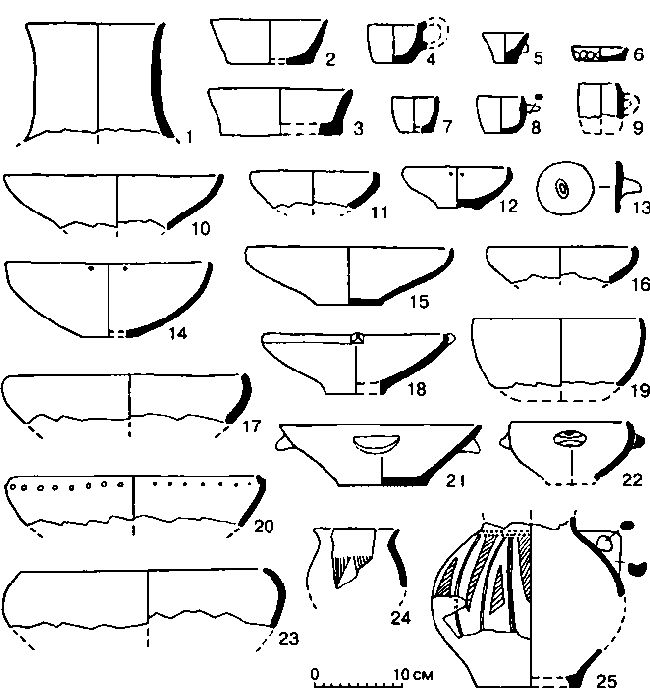42
Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья
- 1. Ареал...42
- 2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй половины VII — первой четверти V в. до н. э......48
- 2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Западного Причерноморья ..... 67
- 2.3.Каллипиды — эллино-скифы.....97
- 3.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья второй четверти V — первой трети III в. до н. э. Характер греко-варварских взаимодействий в V в. до н. э....97
- 3.2. Реколонизация сельских территорий Северо-Западного Причерноморья .... 114
- 3.3. Ойкеты декрета в честь Протогена.129
1. Ареал
Хорошо известно, что в структуре античного Причерноморья обычно выделяют шесть-восемь отдельных культурно-исторических или экономикогеографических районов (Rostovtzeff. 1941. Р. 588 f; Шелов. 1967. С. 70; Брашинский. 1970. С. 133-137; Брашинский, Щеглов. 1979. С. 43). В числе последних в настоящее время уверенно называется и Северо-Западное Причерноморье. Само по себе выделение этого района среди прочих не вызывает ныне никаких возражений и пользуется широким признанием у антиковедов. Тем не менее в вопросе определения географических границ Северо-Западного Причерноморья до сих пор имеются весьма серьезные расхождения (ср., например: Шелов. 1967. С. 220; Vinogradov. 1979. S. 249; Брашинский. 1970. С. 134; Ольговский. 1982. С. 1-2; Щеглов. 1986. С. 165-166). Тем самым создается впечатление, что в современной историографии все еще отсутствуют вполне устоявшиеся и четкие представления о географическом ареале этого района.
Главная причина существующих ныне разногласий видится прежде всего в отсутствии единого, т. е. сквозного, подхода к районированию античного Причерноморья в целом. Как ранее, так и теперь в разного рода исследованиях используются самые различные критерии и признаки для выделения отдельных районов. Важно отметить и то, что практически все они, за исключением чисто географического аспекта, берутся обычно в сфере экономического, культурного и исторического развития самих эллинских центров диаспоры, без какого-либо серьезного учета роли воздействия на это развитие со стороны местных варваров.
Вместе с тем принципиальную важность фактора греко-варварских взаимоотношений, их самодовлеющее значение в деле разработки исторически объективного районирования античного Причерноморья отмечал еще М. И. Ростовцев, энергично подчеркивавший несомненную и весьма значительную зависимость облика экономики и политического развития греческих апойкий региона от характера контактов и отношений последних с вар
43
варскими общественно-политическими образованиями хинтерланда. Более того, по мнению этого исследователя, именно конкретно-историческое развитие форм такого рода зависимости и должно было бы стать одним из основных, если не главным, критерием деления Причерноморья на вполне определенные культурно-исторические районы (Rostovtzeff. 1941. Р. 91).
К сожалению, однако, приходится констатировать, что последовательное проведение в жизнь этой безусловно весьма здравой в своей основе идеи как ранее, т. е. при жизни самого М. И. Ростовцева, так и теперь все еще вряд ли может быть полностью успешным: слишком уж велики различия в степени изученности проблемы греко-варварских контактов в пределах отдельных территорий региона. Ныне такая возможность скорее всего является все-таки исключением и существует относительно некоторых областей Причерноморья, в числе которых, несомненно, следует назвать и его северо-западную часть.
Эта уверенность вызвана прежде всего значительными успехами археологии раннего железного века в деле расширения наших знаний об облике и динамике развития местных культур северных берегов Черного моря. Совершенно неслучайно поэтому, что именно в отечественной историографии сравнительно недавно появилось единственное исследование, в рамках которого и была впервые на практике сделана попытка хотя бы частичного введения в качестве одного из аргументов районирования античного Причерноморья критерия зависимости экономического развития отдельных групп греческих колоний от воздействия на них со стороны тех или иных этнических массивов аборигенного населения (Брашинский. 1970). Совершенно естественно также, что такая попытка затронула главным образом территории северной половины этого региона.
Впрочем, необходимо отметить сразу, что в силу экономического по преимуществу аспекта районирования и невозможности сквозного использования надежной информации о варварской составляющей в культуре региона введение последней в систему доказательств жизненности предлагаемой схемы деления Причерноморья было проведено автором этой разработки И. Б. Брашинским в крайне обобщенной форме и вынужденно играло в ней сугубо подчиненную роль, причем даже в тех относительно редких случаях, когда такая информация в принципе могла стать определяющей. Именно поэтому, как кажется, верное само по себе, т. е. на уровне констатации ряда существенных связей и параллелей в экономическом и культурном развитии собственно эллинских центров, определение ареала Северо-Западного Причерноморья, в состав которого, кстати, были тогда же включены сразу же три территориально сопредельные области греческой колонизации — северная часть Добруджи с городами Каллатией, Томи и Истрией, Нижнее Поднестровье с городами Тирой и Никонием и Нижнее Побужье с городом
44
Ольвией (Брашинский. 1970. С. 134), вряд ли может быть полностью и безоговорочно принято с точки зрения сходства форм зависимости хозяйственной, культурной да и политической жизни этих же центров от воздействия на них со стороны аборигенного населения.
Не следует забывать, что разные части этого обширного района в скифскую эпоху населяла весьма широкая гамма этнических, социально-политических и культурно-исторических образований варваров: гетов, скифов, кельтов и т. д. При всей вероятности близости уровней социально-экономического развития этих образований указанное обстоятельство уже само по себе должно было естественным образом привносить определенный диссонанс в их отношениях с эллинами. Но дело, разумеется, не только в этом. Априорно следует предполагать, что в отдельных случаях речь может идти и о радикальных по своей сути различиях в этих отношениях. Такое предположение закономерно вытекает хотя бы из факта принципиального отличия хозяйственно-культурных типов жизнедеятельности ряда наиболее крупных, политически влиятельных и относительно стабильных во времени и пространстве этнокультурных массивов аборигенов реконструируемого И. Б. Брашинским района Северо-Западного Причерноморья, например, гетов Добруджи и скифов степной зоны Поднестровья и Побужья, поскольку, как известно, первые оставались на протяжении всего интересующего нас периода оседлыми и полуоседлыми автохтонными земледельцами и скотоводами, а вторые, т. е. скифы, — преимущественно кочевниками, пришедшими сюда в свое время из глубин Центральной Азии.
Совершенно очевидно, таким образом, что столь существенные различия в образе жизни и проистекающие отсюда определенные несовпадения социально-психологических установок названных групп местного населения не могли не сказываться самым решительным образом на характере их контактов с близрасположенными греческими центрами, внося тем самым свой вполне специфический вклад в экономическую, политическую и культурную стороны развития последних.
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к заключению о желательности и даже целесообразности выделения северной части Добруджи с городами Каллатией, Томи и даже Истрией, находившимися в практически постоянном окружении и контакте с оседлым населением Карпато-Дунайского бассейна, из состава остальной территории Северо-Западного Причерноморья, где определяющая роль во взаимодействиях варваров с греками принадлежала все-таки номадам — скифам и сарматам.
Вместе с тем само по себе такое выделение названной области не может быть абсолютным и считаться приемлемым во всех отношениях. Напротив, оно изначально относительно и должно рассматриваться как закономерный результат лишь одного из возможных случаев конкретно-исторического под-
45
хода к районированию. Впрочем, весьма существенно отметить и другое — относительность выделения северной части Добруджи из состава Северо-Западного Причерноморья должна быть связана нами не только с различием в принципах районирования, она время от времени может проявляться и в относительной подвижности юго-западной границы этой территории в пространстве. Не следует забывать, что в отдельные исторические периоды в силу разных причин и обстоятельств здесь происходили кардинальные изменения военно-политической и демографической ситуации, вызванные к жизни разного рода перемещениями аборигенного населения региона. При этом наиболее важным, определяющим компонентом таких перемещений являлись, как известно, периодически возобновляемые попытки захвата и освоения кочевыми ордами скифов самых различных районов Причерноморья, в том числе, разумеется, и района Добруджи, представлявшей собой отчасти естественное завершение степного коридора Северного Причерноморья.
Совершенно закономерно предполагать далее, что как раз именно такие продвижения номадов временами могли самым решительным образом оказывать воздействие на расстановку сил в той или иной зоне греческой колонизации и приводили там к радикальным изменениям в характере взаимодействий варваров с эллинами. Тем самым возникала ситуация, при которой та же Добруджа или, по крайней мере, ее северная половина оказывалась как бы втянутой в систему отношений всего Северо-Западного Причерноморья, т. е. с точки зрения критерия зависимости исторического развития местных греческих центров от воздействия на них со стороны туземного населения становилась ее составной и вполне органичной частью. В этом случае, конечно, вполне оправдано смешение границы интересующего нас района на юго-запад, вплоть до ионийского города Томи, по крайней мере.
Весьма близкие, хотя и не тождественные выводы могут быть сделаны и при определении восточной границы Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи. Впрочем, как известно, в современной научной литературе на сей счет существуют сразу две различные точки зрения — ограничивать этот район территорией Нижнего Побужья — Поднепровья (см., например: Шелов. 1967. С. 22; Брашинский. 1970. С. 134) и включать в его состав весь Северо-Западный Крым вплоть до города Керкинитиды (Щеглов. 1986. С. 165- 166; Золотарев. 1986. С. 8).
Анализируя теперь все pro и contra этих позиций, следует признать, что у сторонников максимального расширения ареала Северо-Западного Причерноморья в восточном направлении имеются для этого весьма серьезные основания. Заметим также, что целесообразность проведения такой операции может быть основана ныне не только наличием целого ряда сходств и связей в культуре собственно греческих центров и поселений этого района (см.: Щеглов. 1986. С. 165-166; Кутайсов. 1987. С. 13). Она диктуется
46
нам гораздо более важными обстоятельствами, ибо, по всей видимости, охватывает сферу греко-варварских отношений. На это, в частности, косвенным образом указывают соответствующие материалы лепной керамики, свидетельствующие в пользу наличия каких-то (быть может, даже весьма тесных) контактов аборигенного населения Крыма с греческими колонистами Нижнего Побужья уже во второй половине VII — первой половине VI в. до н. э., т. е. еще задолго до основания здесь ионийской Керкинитиды (Марченко К. К. 1988а. С. 120; Соловьев. 19956. С. 36-38). Нельзя не видеть далее и того, что сама Керкинитида и относительно небольшие ольвийские поселения, появившиеся в Северо-Западном Крыму в конце V — начале IV в. до н. э., располагались непосредственно в зоне скифских кочевий и тем самым должны были оказаться под прямым воздействием со стороны этих воинственных номадов. Иными словами, следует предполагать, что здесь, как и на остальной территории Северо-Западного Причерноморья, т. е. в Нижнем Побужье и Поднестровье, форма зависимости экономического и культурного развития эллинских апойкий от влияния на них варваров имела достаточно длительное время одинаковый или же весьма схожий облик.
Вместе с тем, судя по всей совокупности историко-археологических данных, объединение Северо-Западного Крыма с остальной территорией Северо-Западного Причерноморья необходимо все же ограничивать вполне конкретными хронологическими рамками, включающими в себя главным образом лишь период автономного полисного существования самой ионийской Керкинитиды, именно: третья четверть VI — третья четверть IV в. до н. э. (Кутайсов. 1987. С. 12).
Как установлено ныне, в более позднее время вся приморская часть интересующего нас района Крыма теряет свой прежний политический статус и полностью переходит под контроль Херсонеса Таврического (Щеглов. 1986. С. 152 сл.). С этого рубежа здесь происходят и кардинальные изменения буквально во всех областях экономической и культурной жизни местного населения. По существу эта территория уже перестает выступать в роли сколь-либо обособленной, самостоятельной зоны греческой колонизации Причерноморья и превращается в органическую и неотъемлемую часть Херсонесского государства. Не приходиться сомневаться также, что форма зависимости исторического развития этой дорийской державы от воздействия на нее со стороны варварского окружения решительным образом отличалась от формы зависимости ионийских центров собственно Северо-Западного Причерноморья.
Наконец, последнее. Не приходится сомневаться, что столь же подвижным во времени был в действительности и третий из сухопутных рубежей этого района — северный. Впрочем, на сей счет в современной литературе до сих пор напрочь отсутствуют какие-либо специальные суждения. В от-
47
дельных случаях можно лишь догадываться, что этот термин скорее всего мыслится где-то на северной периферии наиболее интенсивного экономического влияния греческих центров на варварский хинтерланд и, таким образом, должен был проходить по территории лесостепной Украины и Молдовы, охватывая Посульско-Донецкую, Киево-Черкасскую, Восточно- и Западноподольскую и Молдовскую группы памятников раннего железного века.
Допустимое само по себе, т. е. с точки зрения экономико-географического районирования, данное предположение нуждается, по-видимому, в некоторой корректировке с позицией критерия зависимости. Есть некоторые основания предполагать уже априорно, что оседлое население даже наиболее южной, пограничной со степью полосы лесостепной зоны могло непосредственно воздействовать на культуру и экономику эллинских колоний лишь в совершенно определенные периоды и только тогда, когда степной коридор Северного Причерноморья оказывался по тем или иным причинам лишенным жесткого контроля со стороны воинственных номадов. Во всяком случае, лишь в такой ситуации, как кажется, вполне естественно допускать существование самых широких и прямых контактов между греческими колонистами, с одной стороны, и северными земледельческо-скотоводческими общинами варваров, с другой. Во всех иных ситуациях, т. е. при наличии сильных кочевых орд в степной зоне и тем более в периоды военного давления последних на лесостепь, влияние оседлого населения на города могло быть главным образом опосредованным и уже в силу одного этого достаточно слабым.
В заключение подведем основные итоги проведенного анализа.
Как установлено, Северо-Западный историко-географический район интересующего нас времени постоянно включал в себя только две отдельные зоны греческой колонизации — Нижнее Побужье и Нижнее Поднестровье с прилегающими к ним территориями степей. Основной отправной точкой отсчета для именно такого ограничения ареала Северо-Западного Причерноморья стала констатация сходств форм зависимости развития местных эллинских центров от воздействия на них со стороны варваров хинтерланда, прежде всего — номадов, что, однако, вовсе не исключало полностью учета и иных факторов, в том числе устанавливаемых на уровне собственно греческой культурной традиции.
Вторым, но отнюдь не менее важным выводом нашего рассмотрения вопроса об ареале оказалось признание относительной лабильности всех сухопутных границ Северо-Западного Причерноморья. Уже предварительный анализ соответствующих историко-археологических материалов позволяет считать, что в разное время и на разные сроки в состав этого района могли дополнительно входить довольно обширные, сопредельные с основным ядром, области, в том числе: северная часть Добруджи вплоть до Томи на
48
юго-западе, Северо-Западный Крым до Керкинитиды на востоке и, наконец, степной коридор и частично лесостепная зона Украины и Молдовы на севере. Совершенно очевидно также, что последнее обстоятельство приводит нас к необходимости конкретно-исторического определения ареала Северо-Западного Причерноморья, причем каждый раз только в пределах строго очерченных хронологических рамок.
2.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи второй половины VII — первой четверти V в. до н. э.
Вряд ли кто-нибудь может оспаривать существование прямой зависимости между характером взаимоотношений эллинов и варваров, с одной стороны, и моделью освоения экономического потенциала колонизуемой эллинами территории. Равным образом нет сомнений и в том, что, однажды возникнув, такого рода зависимость имела двустороннюю направленность. Не является исключением в этом отношении и Северо-Западное Причерноморье.
В первом приближении ход колонизации этого района известен фактически каждому исследователю. В середине — второй половине VII в. здесь появляются первые поселения греков: Истрия в дельте Дуная и Борисфен в устье Днепро-Бугского лимана, несколько позднее — в первой четверти VI в. до н. э. — к северу от Истрии, по-видимому, возникает крошечный Аргамум, а в Нижнем Побужье — Ольвия; во второй половине этого же столетия ионийцы выводят сюда сразу же целый ряд относительно небольших колоний: Керкинитиду в северо-западную часть Крыма, Никоний и Тиру в Нижнее Поднестровье и Томы в район Добруджи; практически одновременно с этим окрестности Истрии, берега Днестровского и Днепро-Бугского лиманов покрываются сетью стационарных сельскохозяйственных поселений.
Столь же очевидным для большинства современных антиковедов является и то обстоятельство, что в канун греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья большинство прибрежных районов Северного Понта было почти полностью лишено туземного оседлого населения. Более того, как было отмечено выше (см. главу II — Периодизация), вполне вероятно, что сам-το степной коридор региона этого времени вряд ли следует рассматривать в качестве постоянного места обитания сколько-нибудь значительных групп воинственных номадов, способных серьезно осложнить процесс внедрения выходцев из Ионии в интересующие нас зоны заселения. Таким образом, как кажется, у нас в настоящее время есть все основания полагать, что к середине — второй половине VII в. практически на всей территории Северо-Западного Причерноморья создается ситуация, явно
49
благоприятствующая колонизации этого района. Именно поэтому логично думать, что мы вслед за остальными исследователями вроде бы уже изначальнодолжны решительно отказаться от рассмотрения сразу двух наиболее часто встречающихся в древности моделей греческой колонизации новых территорий — в виде военного захвата страны и насильственного вытеснения местных жителей или превращения их в пласт социально зависимого от эллинов населения, либо же в результате мирной уступки земли колонистам дружелюбно настроенными по отношению к ним вождями туземцев. На поверку оказывается как бы, что и тот и другой варианты событий просто невозможны в силу отсутствия самого контрагента. Создается полное впечатление, что переселенцы если не всегда, то уж по крайней мере в подавляющем большинстве случаев занимали или ничейные, или, по меньшей мере, просто пустующие в данный момент земли. Именно поэтому вполне закономерным в первом приближении кажется и другое весьма распространенное в современной историографии мнение, согласно которому греко-варварские контакты не играли существенной роли в развитии колонизационного движения ионийцев. Так ли это на самом деле? Остановимся на этом вопросе подробнее.
Прежде всего, на что, быть может, следует обратить особое внимание в данной связи, — на весьма растянутое во времени освоение греками северо-западного побережья Понта. Впервые появившись в середине VII в., выходцы из Ионии, по всей видимости, приступили к широкомасштабному выведению сюда очередных контингентов колонистов только в середине — второй половине следующего столетия.
Отмеченное поразительное промедление в ходе заселения района на фоне весьма активно проводимой в конце VII — первой половине VI в. колонизационной деятельности греков, создавших в это время целую плеяду апойкий в самых различных областях Причерноморья, вряд ли может получить достаточно приемлемое объяснение в сфере имманентных особенностей развития самой метрополии.1 Есть некоторые основания думать, таким образом, что поиск решения данного вопроса должен быть направлен прежде всего в сторону исторически более четкого определения физико-географической и военно-демографической составляющих интересующей нас территории. Впрочем, как представляется даже в первом приближении, из круга нашего рассмотрения можно сразу же исключить фактор природной среды обитания, поскольку и дельта Дуная, и Нижнее Поднестровье, и особенно Нижнее Побужье бесспорно обладали всем необходимым спектром усло
1 Заметим, правда, что для сколь-либо развернутой характеристики этого развития у антиковедов до сих пор явно не хватает достаточной информации (см., например: Ehrhard. 1983. S. 249-251).
50
вий, требуемых для успешного развития экономики колонистов (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18-19; Охотников. 1990. С. 45-47; Avram. 1990. S. 16-17).
Другое дело — демография района. В данном случае можно полгать, что при моделировании конкретно-исторической ситуации, в которой протекала колонизация Северо-Западного Причерноморья, современные исследователи придают все же неоправданно большое значение факту отсутствия стабильного туземного населения в прибрежной полосе этой территории. Реконструируемая ими ситуация, при которой переселенцы оказываются в условиях чуть ли не terra deserta и тем самым получают полную свободу рук в своих действиях, не выдерживает критики.
Не следует забывать, что относительно узкий степной коридор этой части Понта сам по себе не мог являться непреодолимым барьером на пути распространения населения вширь. Напротив. В случае отсутствия кочевников он естественным образом становился наиболее удобной и легкопроходимой дорогой, улучшавшей связь между жителями различных районов региона. Напомним также, что в канун греческой колонизации в лесостепной зоне Северного Причерноморья существовал мощный пласт местной земледельческо-скотоводческой культуры. Как было установлено ранее (см. главу II — Периодизация), именно здесь в это время, по всей видимости, происходит сложный и, совсем не исключено, достаточно острый в военно-политическом отношении процесс внедрения номадов раннескифского периода в социальную и экономическую структуры потестарных объединений автохтонных жителей.
Одним из основных результатов этого внедрения стал, по всей видимости, захват политического контроля номадами над частью туземного населения и образование ими господствующего слоя. Такое развитие событий в лесостепной зоне должно было на первых порах существенным образом трансформировать местное общество, придав ему не свойственный ранее динамизм. Не случайно поэтому, надо думать, гетерогенная по своему составу археологическая культура «скифов-земледельцев» уже давно рисует перед удивленным взором исследователей картину, в которой, «по-видимому, было все же много черт кочевого быта», получившего наиболее яркое выражение в функционировании у них боевых дружин, состоящих из всадников-воинов, ведущих кочевой (Шелов. 1975. С. 18) или, что наиболее вероятно, полукочевой образ жизни. Именно в этом ракурсе прежде всего следует, на наш взгляд, рассматривать заметное расширение в раннескифское время разнообразных по своему характеру контактов «земледельцев» со своими западными, южными и юго-восточными соседями. С этих же позиций, наконец, может быть рассмотрено и появление уже во второй половине VII в. до н. э. в этих районах сильно укрепленных поселений туземных жите-
51
лей (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 260, 267, 283; Шрамко. 1987. С. 33; Мелюкова. 1988. С. 22; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 17) и скифского боевого оружия в могильниках Южного Прикарпатья (см., например: Мелюкова. 1979. С. 93, 95; Vulpe. 1987. Р. 83). Словом, у нас, как кажется, есть некоторые основания полагать, что в момент возникновения первых греческих выселков в прибрежной полосе Северо-Западного Причерноморья значительная часть земледельческо-скотоводческого населения этого района находилась в фазе активного воздействия на свое ближайшее окружение, причем главенствующую роль в развернувшихся здесь событиях играли, по всей видимости, недавние пришельцы — номады, стремившиеся к всемерному расширению и упрочению своего влияния на аборигенов. Лишь постепенно, по мере неуклонно углублявшейся интеграции с культурной традицией земледельцев, новые хозяева Северного Причерноморья должны были неизбежно утратить наиболее одиозные черты идеологических воззрений на оседлую часть туземных жителей и приступить к более упорядоченному, хотя, конечно, и не обязательно во всех случаях мирному, т. е. основанному на системе каких-то договоров и относительном равновесии сил, освоению экономического потенциала контролируемых ими территорий. Судя по всей совокупности археологических данных, указанная трансформация в их образе жизни произошла где-то в первой половине — середине VI в. Во всяком случае именно с этого времени и вплоть до самого начала следующего столетия наши источники фиксируют в лесостепной зоне региона наивысший расцвет хозяйственной и культурной деятельности местного населения, сопровождающийся заметным ростом его благосостояния.
Возвращаясь к началу колонизации Северо-Западного Причерноморья, мы, как кажется, можем теперь самым решительным образом скорректировать наши представления о существовавшей здесь в это время военно-демографической ситуации. Исходя из всего вышеизложенного закономерно предположить, что в середине — второй половине VII в., т. е. в момент выведения сюда первых эллинских колоний, прибрежная полоса района должна была находиться под самым действенным контролем со стороны обитателей лесостепной зоны. Более того, есть некоторые основания думать, что имевшая место тогда же ситуация вряд ли могла казаться ионийцам во всех отношениях пригодной для свободного или сколь-либо широкого освоения «пустующих» земель. Следует допускать даже, что сама возможность создания стационарных поселений греков в этих условиях оказалась сопряженной с необходимостью заключения ими какого-то вида соглашений с туземной аристократией, возглавлявшей мобильные дружины конных воинов. Равным образом следует предполагать также и то, что дальнейшее благополучие этих поселений и сам их modus vivendi в значительной степени зависели от доброжелательного отношения к ним местной элиты. При этом, как пред
52
ставляется, единственным приводным ремнем развития и упрочения именно такого характера отношений на первом этапе могла стать лишь взаимовыгодная торговля. Только по мере стабилизации обстановки в хинтерланде и постепенного втягивания варваров в обменные операции с эллинами для колонистов возникли реальные предпосылки перехода к непосредственной и крупномасштабной эксплуатации местных природных ресурсов.
В какой мере, однако, высказанные только что суждения и догадки могут быть подкреплены и детализированы археологическими материалами самих греческих поселений этого района интересующего нас в данном случае периода?
Переходя к их анализу, мы прежде всего вынуждены отметить то в высшей степени печальное для нас обстоятельство, что радикальное изменение начертания береговой линии, происшедшее в результате эвстатических колебаний уровня Черного моря (см., например: Alexandrescu. 1970; Шилик. 1975; 19756; Агбунов.1984; Бруяко, Карпов. 1987) и повлекшее за собой утрату значительных и, вероятнее всего, наиболее ранних участков застройки первых выселков греков, не позволяет ныне с достаточной уверенностью судить не только об их истинных размерах, а следовательно, и численности жителей, но даже, в конечном счете, о наличии или отсутствии у них фортификационных сооружений. Изначально не подлежит сомнению, пожалуй, лишь одно — и Борисфен, и Истрия являлись сугубо прибрежными поселениями, одно из которых — Истрия — было заложено на небольшом, чуть выступающем в море мысе (Alexandrescu. 1970. Р. 80. Fig. 2; 1990. S. 49. Abb. 2-4), а второй — Борисфен — на территории обширного полуострова (см., например: Щеглов. 1965; Лапин. 1966. С. 128-137). Как полагает Ю. Г. Виноградов, и в том и в другом случаях следует говорить о местах, «защищенных самой природой» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 41). Насколько, однако, такое защищенное природой расположение названных поселений само по себе, т. е. без создания искусственных рубежей обороны, могло гарантировать безопасность их обитателей, к сожалению, пока во многом остается для нас загадкой. В предварительном плане допустимо все же высказать предположение, что выбор именно этих мест под заселение являлся не только данью устоявшейся к тому времени колонизационной практики ионийцев, но был наряду с прочим в значительной степени продиктован повседневными реальностями существовавшей в их окрестностях обстановки.
Несколько более информативным под интересующим нас углом зрения оказывается рассмотрение сохранившихся до наших дней остатков древнейших греческих колоний Северо-Западного Причерноморья. Впрочем, что касается первоначального облика наиболее ранней из них — Истрии, то существующие на сей счет все еще крайне скудные данные явно дискуссионны и до проведения дополнительных широкомасштабных исследований культур
53
ных напластований памятника архаического периода вряд ли могут быть напрямую использованы в нашей работе. Бесспорным в настоящее время является, пожалуй, лишь наличие в этих слоях довольно многочисленных и самых разнообразных материальных свидетельств едва ли не изначального физического присутствия значительного числа варваров, в том числе, кстати, и выходцев из лесостепной зоны северопричерноморского региона, в составе постоянных жителей так называемого «цивильного поселения» Истрии, возникшего, по всей видимости, еще в конце VII в. до н. э. в непосредственной близости от «акрополя» городища (Avram. 1990. S. 20; Alexandrescu. 1990. S. 65). Весьма примечательным в этом же смысле оказывается и наличие в раннем некрополе придунайской апойкии подкурганных захоронений местной знати середины — второй половины VI в. до н. э., сопровождавшихся погребениями коней и человеческими жертвоприношениями (Alexandrescu et Eftimile. 1959; Alexandrescu. 1966. P. 146-159; 1990. S. 65-66). Последнее обстоятельство вполне может быть истолковано в качестве надежного свидетельства существования у «истрийских» туземцев какого-то рода потестарной организации, находившейся в это и даже, быть может, более раннее время в самом прямом и тесном контакте с греческими колонистами. И это, пожалуй, все.
Другое дело — Борисфен. В развитии поселенческой структуры второй древнейшей ионийской колонии Северо-Западного Причерноморья современные исследователи довольно уверенно выделяют сразу два хронологических этапа, а именно: конец VII — третья четверть VI в. до н. э. и конец третьей четверти VI — первая четверть V в. до н. э. (Копейкина. 1979. С. 110; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35-37; 19896; ср. Крыжицкий. 1987. С. 8). При этом, как представляется ныне, на первом этапе речь может идти лишь о достаточно хаотичном, скорее всего, так называемом кустовом или же весьма близком таковому характере застройки ее территории, при котором отдельные хозяйства включали в себя от одного до нескольких ситуационно изолированных от других «усадеб» строительных комплексов (см.: Мазарати, Отрешко. 1987. Рис. 2. С. 9; Solovjov. 1999. Fig. 10. P. 32). Важно заметить также, что каких-либо иных признаков организации пространства поселения этого времени до сих пор зафиксировать не удалось. Равным образом, не удалось до сих пор обнаружить в структуре памятника и других не менее показательных для выяснения его таксономического статуса элементов, например, в виде остатков общественных и культовых зданий. Словом, создается полное впечатление, что сохранившаяся до наших дней часть Борисфена даже к концу первого этапа, т. е. по прошествии весьма продолжительного отрезка времени, насчитывающего не менее 100-110 лет от момента появления в Нижнем Побужье первых греческих колонистов, если, конечно, исходить из даты основания этой апойкии — 647/646 г. до
54
н. э., указанной в хронике Евсевия (Euseb., Chron., can. P. 95b. Helm.),1 ни в малейшей мере не обладала теми внешними атрибутами греческого города, которые одни только и могут позволить на археологическом уровне составить на сей счет более или менее определенное представление.
Картина поразительной застойности развития строительного дела колонии возникает и в процессе рассмотрения материалов конкретных комплексов Борисфена, относящихся к концу VII — третьей четверти VI в. до н. э. Как это ни покажется на первый взгляд странным, но в составе весьма представительной и, следует думать, вполне репрезентативной выборки этого времени, насчитывающей более 250 хорошо документированных сооружений (Solovjov. 1999. Р. 34), все еще отсутствуют остатки построек, которые могли бы быть напрямую сопоставлены с домами метрополии. Более того, есть все основания считать, что в течение всего первого этапа, т. е. вплоть до конца третьей четверти VI в. до н. э., греки довольствовались лишь созданием здесь относительно примитивных и до сих пор неизвестных в самой Ионии жилищ в виде так называемых землянок и полуземлянок.2
Сам по себе этот факт, как известно, объясняется ныне либо тем, что эмигранты прибыли на берега Северного Причерноморья из какого-то периферийного, относительно изолированного и, следовательно, отсталого района античной ойкумены (Лапин. 1975. С. 101 ), либо простым заимствованием идеи заглубленного жилища у местного населения (Крыжицкий. 1982. С. 148; 1985. С. 59). Впрочем, что касается первого варианта объяснения, рассматривающего тип земляночного сооружения в качестве «реликтовой черты», органически присущей периферийному типу эллинской культуры переселенцев, то, как очевидно, он в значительной степени может быть парирован уже одним тем соображением, что, судя по всем историческим данным, сами-το колонии, в том числе, кстати, и Борисфен, в своем подавляющем большинстве выводились все-таки наиболее развитыми в социально-экономическом отношении полисами метрополии и, таким образом, вряд ли несли в своем зародыше гены столь чрезмерной «реликтовости» быта.
Другое дело — идея заимствования. В последнем случае следует признать, что стремление видеть в борисфенских землянках и полуземлянках сознательно модифицированный применительно к местным условиям тип жилищ первых колонистов не лишено оснований. В самом деле, вполне ре
1 О времени выведения Борисфена подробнее см.: Vinogradov, Domanskij, Marcenko. 1990. P. 122-130.
2 Заметим, что появляющиеся время от времени в научной литературе указания на существование такого рода жилых комплексов в метрополии не корректны, поскольку в них, как правило, речь идет либо о совершенно ином времени, либо о функционально иных сооружениях, либо, наконец, о том и другом одновременно (см., например: Буйських. 1990. С. 30; ср. Drerup. 1969. S. 44-47).
55
зонно допускать еще априорно, что на начальном этапе обустройства только что выбранного места под заселение вчерашние «скитальцы» ввиду дефицита времени или же недостатка сил и средств и естественной в этом случае узости строительной базы могли воспользоваться опытом своих туземных соседей и, творчески следуя их примеру, стали сооружать наиболее простые в исполнении, но вполне пригодные для жизни в суровых условиях новой родины жилища — землянки. Заметим сразу же, что столь радикальная трансформация собственной традиции, повлекшая за собой превращение наземного сырцово-каменного «дома колониста» в землянку, уже изначально предполагает предварительное и довольно близкое знакомство греков с бытом аборигенного населения и, как следствие, ведет к признанию реальности доколонизационных плаваний. В данной связи необходимо учитывать также, что единственная область расселения туземцев, где колонисты могли воочию увидеть и оценить прообраз своих будущих временных жилищ, находилась в то время, т. е. во второй половине VII в. до н. э., на весьма значительном расстоянии от берега моря — в лесостепной зоне Северного Причерноморья.
Допуская именно такую последовательность событий, мы вместе с тем вынуждены будем отметить все же, что при более или менее благоприятном развитии апойкии стартовые неурядицы и вызванный ими переход к строительству сравнительно менее удобных и явно недолговечных землянок не могли быть слишком уж продолжительными и вряд ли превышали время жизни одного поколения, а, учитывая вполне естественное стремление переселенцев создать для себя на новом месте сходные или даже лучшие, в сравнении с покинутой родиной, условия быта, и того меньше.1 Во всяком случае, следует предполагать, что по прошествии по крайней мере двухтрех десятилетий от момента основания колонии хотя бы у части ее обитателей должны были появиться дома, выполненные в духе культурной традиции самих эллинов.
Вместе с тем, как уже отмечалось выше, рассмотрение материалов жилых и хозяйственных комплексов раннего Борисфена выявляет существенные отклонения от ожидаемого развития событий. Наблюдаемая картина в действительности показывает, что переход к сооружению типично греческих наземных домов на этом поселении начался значительно позже и проходил не постепенно, а как бы сразу, в один прием. При этом, однако, строительство землянок полностью не прекратилось и далее, хотя, по всей видимости, их количество резко сократилось. Как бы то ни было, но есть достаточно серьезные причины полагать, что только с конца третьей четверти
1 Именно такую картину, судя по всему, мы наблюдаем, к примеру, на территории раннего греческого поселения на месте Анапы (Алексеева. 1990. С. 23).
56
VI в. до н. э. одна из наиболее древних колоний Северо-Западного Причерноморья наконец-то стала приобретать облик настоящего городского центра (см., например: Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 10; Соловьев. 1989. С. 10). Такое замедленное развитие строительного дела Борисфена требует своего объяснения.
Исходным пунктом нашего поиска возможных причин указанной стагнации будет признание факта изначального и продолжительного использования эллинами Борисфена грунтовых построек в качестве основного и даже, быть может, единственного типа собственных жилищ. Вместе с тем, признавая этот факт, мы вынуждены будем обратить внимание на довольно примитивный облик подавляющего большинства борисфенских землянок и полуземлянок.1 По существу, речь чаще всего должна идти о весьма небольших по площади (от 4,0 до 10,0 м2) четырехугольных, овальных или круглых по форме однокамерных структурах с глинобитными или, скорее, глиняноплетневыми стенами, возведенными по краям котлованов глубиной до 1,0 м. Следует заметить также, что не менее трех четвертей такого рода строительных комплексов не имели в своем более чем скромном «интерьере» даже постоянных печей или открытых очагов и, судя по всему, могли отапливаться в холодное время года в лучшем случае только переносными жаровнями. Словом, создается впечатление, что стандарт жизни в таких постройках по большей части вряд ли мог быть доведен до уровня, который в принципе представляли своим создателям наиболее основательные жилища туземцев лесостепной зоны Северного Причерноморья раннего железного века. Последние во многом явно выигрывают на их фоне своей лучшей обустроенностью, продуманностью деталей интерьера и наличием постоянных очагов для обогрева помещений (см., например: Шрамко. 1987. С. 37, 42-69; Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 15-19).
В силу сказанного следует думать, что из числа наиболее вероятных доводов в пользу неистребимой приверженности ионийцев к столь примитивному роду сооружений сразу же может быть исключено явно голословное утверждение, будто землянки и полуземлянки в сравнении с сырцово-каменными домами обладали какими-то особыми преимуществами, обеспечивающими их обитателям более эффективную защиту от неблагоприятных погодных условий Северного Причерноморья (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицький, Русяева. 1978. С. 25; Буйських. 1990. С. 30). Уже сам по себе переход к широкомасштабному строительству наземных построек
1 Развернутый анализ внешнего облика грунтовых структур первого этапа существования колонии смотрите в работах В. В. Лапина (1966. С. 94-97), С. Н. Мазарати, В. М. Отрешко (1987. С. 8-116), Я. В. Доманского, Ю. Г. Виноградова, С. Л. Соловьева (1989а. С. 35-36) и С. Л. Соловьева (1989; 1999. Р. 31 ff.).
57
вполне обычных для греческой практики типов на втором этапе развития поселенческой структуры Борисфена и последующее их неукоснительное воспроизведение во времени в условиях более прохладного климата этого региона скорее свидетельствует об обратном (ср. Соловьев. 1989. С. 11).
Фактически столь же сомнительной причиной длительного использования греками землянок представляется и их зависимость от якобы чрезмерно слабого развития собственной экономической базы (см., например: Лапин. 1966. С. 153; Крыжицький, Русяева. 1978. С. 25), поскольку у нас есть все основания полагать, что ионийские ремесленники — металлурги и стеклоделы — уже в первой половине VI в. до н. э. обладали интенсивно работающими мастерскими, расположенными не только на территории поселения (см.: Лапин. 1966. С. 137-138), но отчасти даже за пределами самой колонии, на берегу Ягорлыцкого залива (Островерхов. 1978а. С. 12-17; ср. Марченко К. К. 1980. С. 135). При наличии же в окрестностях Борисфена легко доступных массивов лесов с более чем солидным запасом деловой древесины и месторождений строительного камня, песка и глины (см., например: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 18), отмеченное выше упорное «нежелание» поселенцев хоть как-то улучшить свои условия местного быта и привести их в соответствие с общепринятыми нормами эллинской культуры оказывается просто загадочным.
Ничего, к сожалению, не проясняет в этой загадке в первом приближении и весьма вероятная малочисленность начального контингента колонистов. Нельзя забывать, что речь в данном случае идет все-таки не о двух или даже трех десятках лет пребывания греков на территории выбранного ими под заселение полуострова, а о гораздо более продолжительном времени — двух-трех поколениях обитателей Борисфена, почему-то довольствовавшихся вместе со своим подрастающим потомством прозябанием в крайне примитивных грунтовых помещениях.
Какие же, однако, могут быть все-таки даны объяснения этому странному факту?
Первое, на что, быть может, необходимо обратить внимание в данной связи, — на вполне вероятное отсутствие военно-политической стабильности в окрестностях Борисфена во второй половине VII — начала VI в. до н. э. по крайней мере (см. выше). Такое положение дел само по себе должно было пробуждать у ионийцев чувство некоторой неуверенности в своем завтрашнем дней. Совершенно естественно также, что переход в этих условиях к крупномасштабному строительству многокомнатных наземных сырцовокаменных домов, требовавших значительных средств и затрат физического труда, мог казаться преждевременным и даже до некоторой степени рискованным предприятием. Лишь с уменьшением напряженности во взаимоотношениях между отдельными группировками варваров лесостепной зоны
58
и упрочением экономических и иных контактов туземцев с эллинами у последних наконец-то в этом смысле оказались полностью развязаны руки.
Вторым вполне вероятным фактором, содействовавшим столь длительной застойности строительного дела греков, мог являться характер базовой функции самого Борисфена. Такое предположение основывается на хорошо установленной археологическим путем зависимости системы застройки отдельных колоний от основной цели, которую при этом преследовали их основатели. Оценивая под указанным углом зрения внешний облик Борисфена интересующего нас отрезка времени, нельзя не прийти к выводу, что он более всего подходит для торговой (сырьевой), нежели сельскохозяйственной апойкии, поскольку, как известно, для аграрных колоний все-таки гораздо чаще было присуще соблюдение общепринятых норм градостроительства, включавших, наряду с прочим, и какую-то, во всяком случае более жесткую, в сравнении с наблюдаемой, регламентацию внутреннего пространства населения.1
Впрочем, как известно, о характере базовой функции Борисфена до сих пор идут споры принципиального характера. И это понятно, ибо в прямой связи от того или иного решения вопроса находится оценка и самого характера начала колонизации Нижнего Побужья. При этом, напомним, одни исследователи считают поселение по преимуществу аграрно-ремесленным центром (Лапин. 1966. С. 122-140; ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. ΙΟΙ 1), другие же — отдают предпочтение торговой (сырьевой) направленности хозяйства (см., например: Копейкина. 1979. С. 107-109). Надо полагать, что дальнейшее изучение культуры памятника сдвинет решение этого вопроса с состояния неустойчивого равновесия. Нужно сказать все же, что, как представляется в настоящее время, позиция сторонников второй, торговой или, лучше сказать, торгово-сырьевой по преимуществу ориентации экономики более подкреплена фактологическими данными.'2
В самом деле, если мы теперь обратимся к подбору соответствующей информации, то очень скоро обнаружим, что ее не так уж и мало, но главное, что она весьма разнохарактерна. Это, во-первых, материалы самого поселения: большое количество хозяйственных ям, часть из которых явно могла служить для хранения торгового зерна (Лапин. 1966. С. 122-124), две крупные медеплавильные мастерские первой половины VI в. до н. э., производившие металл на экспорт (Доманский, Марченко, Бекетова. 1999. С. 14, 16; Доманский, Марченко. 2004. С. 23 сл.), необычно высокий удельный вес в керамическом комплексе относительно дорогой посуды (Копейкина. 1971.
1 Литературу вопроса см. в работе В. И. Козловской (1984. С. 39).
2 Наиболее полная и, на наш взгляд, вполне убедительная трактовка причин выведения Борисфена и картина последующей коммерческой деятельности его жителей даны Ю. Г. Виноградовым (1989. С. 50-57).
59
С. 3), принадлежавшей, по всей видимости, материально обеспеченным категориям лиц, к каковым, несомненно, следует относить и купцов, небольшой клад золотых ионийских монет последней четверти VII — начала VI в. до н. э. (Карышковский. Лапин. 1979), использовавшихся прежде всего в интерлокальной торговле греков, и, наконец, оба наиболее интересных эпиграфических памятника архаического Борисфена — многострочное граффито на фрагменте ионийского килика VI в. до н. э. и письмо на свинцовой пластинке конца VI или начала V в. до н. э., также непосредственно связанные с темой торговли (Виноградов Ю. Г. 1971а. С. 64-67; 19716. С. 98-99).
Разумеется, противники подобной точки зрения могут возразить, что информация, содержащаяся в упомянутых документах, довольно далеко отстоит во времени от начального периода существования поселения и скорее определяет его функцию уже в рамках ольвийского государства, т. е. совершенно иной социально-экономической системы. Все это так. Но для нас важен сам факт наличия однозначно трактуемых письменных свидетельств торговой активности борисфенитов в VI в. до н. э. Как представляется, в сочетании с другими вышеперечисленными материалами он может послужить одной из опорных точек вектора, характеризующего ориентацию экономики наиболее ранней греческой апойкии Нижнего Побужья.
Но и это еще не все. Следы деятельности греческих купцов Борисфена имеются и за пределами самого поселения. Как бы скептически ни относились некоторые исследователи к действительно редким находкам импортной эллинской керамики на территории расселения земледельческо-скотоводческих племен Среднего Поднепровья (Лапин. 1966. С. 73, 74, 76; Доманский. 1979. С. 83-84), они все-таки есть и могут быть использованы для доказательства заинтересованности самых первых колонистов в развитии торговых контактов с варварами.
Еще более убедительные свидетельства этой заинтересованности обнаруживаются на территории самого Нижнего Побужья. Как показывают археологические обследования берегов Березанско-Сосицкого лимана, Борисфен не обладал сколь-либо обширной сельскохозяйственной базой в течение VII и по крайней мере двух или даже трех десятилетий следующего столетия. Наиболее древние следы жизнедеятельности в его ближайшей округе относятся лишь ко второй четверти VI в. до н. э. (Русяева. 1967. С. 142; Отрешко. 1975. С. 94; Рубан. 1988. С. 8; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 20), да и те крайне малочисленны и, по всей видимости, представлены лишь единичными обломками импортной керамики. Во всяком случае нам до сих пор неизвестно ни одного достоверного факта обнаружения строительного комплекса на периферии Борисфена, начало существования которого можно было бы относить ко времени ранее второй четверти VI в. до н. э. В силу этого, как кажется, у нас все еще нет и серьезных оснований пола
60
гать, что борисфениты будто бы уже в первой половине VI в. до н. э. фактически освоили экономический потенциал значительной части территории Нижнего Побужья, а тем более перешли к планомерной эксплуатации его ресурсов (ср. Яйленко. 1983. С. 142).
Такое явное «равнодушие» обитателей поселения к освоению близрасположенных земель явно не случайно. Можно думать, что фиксируемая ситуация являлась следствием по меньшей мере трех так или иначе связанных между собой факторов, а именно: крайней малочисленности первоначального контингента переселенцев, не аграрного, а преимущественно торговоремесленного характера древнейшей фазы колонизации Нижнего Побужья и, наконец, отсутствия в рассматриваемое время достаточно стабильного положения дел в степном коридоре Северного Причерноморья для гарантированного и широкомасштабного занятия земледелием.
Наиболее очевидным из этих факторов представляется, впрочем, первый. На это прямо указывает весьма небольшой удельный вес наиболее ранних строительных и хозяйственных комплексов самой колонии (см., например: Копейкина. 1979. С. 107). Создается впечатление, таким образом, что изначальная ограниченность людских ресурсов апойкии уже сама по себе ставила довольно-таки узкие пределы непосредственной эксплуатации местных природных ресурсов. Единственно возможной и, вероятно, запланированной в этой ситуации формой получения сколь-либо значительного количества сельскохозяйственной продукции и иных видов сырья, необходимых как для метрополии, так и для самого Борисфена, могло быть только налаживание торгового обмена с населением глубинных районов Северного Причерноморья, земледельцами прежде всего. При этом, по-видимому, мы все-таки должны исходить из предположения, что основным, хотя, разумеется, и не единственным генератором коммерческой деятельности греков уже изначально была их насущная заинтересованность в получении у туземцев товарного хлеба. В данном случае заметим также, что наилучшие условия для его производства на продажу, судя по всему, имели так называемые скифы-пахари Геродота (Herod., IV. 17), т. е. скорее всего аборигены лесостепной зоны Днепровского Правобережья и отчасти бассейна Ворсклы, где в это время, в отличие от Днепро-Донского и Пруто-Днестровского междуречья наряду с посевами полбы-двузернянки, по-видимому, выращивали и голозерную пшеницу (см.: Ковпаненко, Янушевич. 1975; Шрамко. 1987. С. 86; Моруженко. 1989. С. 34). Как представляется далее, именно в этом направлении главным образом и были ориентированы заинтересованные взоры купцов Борисфена, свидетельством чего, как известно, является наибольшее количество находок импортных греческих изделий в материалах памятников варваров только что очерченной территории Северного Понта (см., например: Вахтина. 1984. С. 11).
61
Следует подчеркнуть, впрочем, что в последние годы появились новые исключительно важные материалы, проясняющие характер торговых контактов раннего периода. Они значительно расширяют номенклатуру эллинских товаров, поступавших в лесостепную зону Северного Причерноморья еще в период становления самых первых эллинских поселений региона. Более того, создается впечатление, что в действительности ранний греческий импорт во внутренние районы мог включать в себя не только и не столько относительно дорогостоящие и высокохудожественные произведения мастеров метрополии, предназначенные, как это считалось ранее, почти исключительно для сбыта местной знати (см. например: Книпович. 1934. С. 107-108; Доманский. 1970. С. 80), сколько прежде всего вполне дюжинную продукцию ремесленников самого Борисфена и, быть может, отчасти Ольвии, ориентированную на удовлетворение насущных потребностей рядовых общинников в изделиях из стекла и металла.
Ассортимент такого рода предметов частично восстанавливается как по данным самого Борисфена (Копейкина. 1981. С. 170-171), так и по материалам остатков скорее всего сезонных производственных мастерских греческих ремесленников того же Борисфена — металлургов и стеклоделов, — расположенных на территории Кинбурнского полуострова на так называемом Ягорлыцком поселении.
Как показало изучение этих остатков, здесь, на берегу Ягорлыцкого залива, частично на основе местных сырьевых ресурсов уже в первой половине VI в. до н. э. было налажено широкое изготовление самых разнообразных изделий скифского типа из железа, бронзы, свинца и, по всей видимости, стекла, в том числе: акинаков, наконечников копий и стрел, ножей, гвоздевидных булавок, браслетов с шаровидными утолщениями на концах, подвесок, гривен, разного рода бус и т. п. (Островерхов. 1978а. С. 14-16; 19786. С. 33. Рис. 4; Ольговский. 1982. С. 14). Не подлежит сомнению, что значительная часть этих предметов предназначалась для продажи в районах хинтерланда (Ильинская. 1975.С. 153,169-170; Островерхов. 1978а.С. 14-17; Вахтина. 1984. С. 13-14).
Нетрудно заметить, таким образом, что интенсивность начальной фазы торгового обмена между греками и варварами и, следовательно, быстрота адаптации к запросам местного рынка первых эллинских поселенцев на поверку оказывается на порядок выше, нежели это предполагалось исследователями до самого последнего периода. С этой точки зрения в настоящее время все более реальным, чем когда бы то ни было ранее, кажется и существование уже с конца VII — начала VI в. до н. э. в лесостепной зоне Северного Причерноморья, конкретно — на территории некоторых наиболее крупных поселений земледельцев Днепровского Правобережья, например, Немировского городища, своего рода факторий жителей Борисфена, через посредст
62
во которых, как полагают, греческими купцами был налажен на более или менее постоянной основе здесь, в глубинке, непосредственный торговый обмен с аборигенным населением Среднего Побужья и Поднепровья (Доманский. 1970. С. 52; Островерхов.· 1978а. С. 21; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 382-383; 1989. С. 55).
Одним из важнейших следствий установления тесных экономических контактов борисфенитов с аборигенами стал приток последних в Нижнее Побужье. Судя по археологическим материалам самой колонии, варвары появились здесь на удивление быстро — буквально сразу же после основания поселения. Во всяком случае, временной разрыв между этими двумя событиями практически не улавливается (Марченко К. К. 1976. С. 164). Как показывает анализ вещественных находок из культурного слоя и закрытых комплексов ранней апойкии, это были выходцы из различных районов Северо-Западного Причерноморья — Поднепровья, Среднего Побужья и Карпато-Дунайского бассейна. Основным аргументом в пользу присутствия на территории Борисфена разноэтничных аборигенов при этом являются материалы лепной керамики, представленной здесь практически тем же набором типов, что и обнаруженная на безусловно местных памятниках раннего железного века перечисленных выше районов хинтерланда (Марченко К. К. 1988а. С. 107-121 ). Не менее показательным в этой же связи оказывается и неожиданно высокий процент такой посуды в керамическом комплексе Борисфена — не менее 10-12% (без учета обломков амфорной тары), — явно указывающий на значительный удельный вес туземцев в составе жителей древнейшей греческой колонии Нижнего Побужья (Марченко К. К. 1988а. С. 52. Таб.З; ср. Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).
В какой же, однако, мере подтверждают присутствие туземцев в составе постоянных жителей Борисфена другие «независимые» категории археологических реалий поселения?
Разумеется, это, прежде всего, находки в архаическом слое костяных псалиев, выполненных в так называемом скифском зверином стиле (Доманский, Марченко. 1999). Значительно менее информативными в этом смысле в силу своей почти полной неразработанности оказываются пока, к сожалению, обширные данные некрополя Борисфена. На сегодняшний день в составе материалов этого памятника вполне надежно выделены только два конкретных захоронения варваров позднеархаического времени. При этом, однако, обращает на себя внимание то в высшей степени примечательное для нас обстоятельство, что даже столь непредставительная выборка демонстрирует нам кардинальные отличия обрядов погребения местных туземцев, поскольку одно из захоронений такого рода, вполне идентичное, кстати сказать, практиковавшимся в лесостепной зоне Северного Причерноморья раннескифского периода, — ингумация воина со скифским оружи
63
ем и золотыми украшениями, совершено в полусожженном склепе, сооруженном из тесаных деревянных брусьев (Капошина. 1956б. С. 230; Мурзин. 1984. С. 45), а второе, находящее себе прямые аналогии в материалах местных могильников фракийского гальштата Карпато-Дунайского бассейна, — «погребение сожженного праха в специальной яме, стенки которой были специально обмазаны глиной и обожжены» (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 58-59). Тем самым, несмотря на крайнюю ограниченность достоверных наблюдений, у нас, как кажется, и в данном случае все-таки есть некоторые основания предполагать разноэтничный состав туземной части этой колонии. Чрезвычайно симптоматичным оказывается и другое, а именно: и первое, и второе погребения туземцев могут быть связаны с археологическими культурами как раз тех глубинных районов северо-западной части Понта, представители населения которых на территории Борисфена наиболее четко засвидетельствованы материалами лепной керамики этого памятника.
Несколько более результативным под интересующим нас на этот момент углом зрения оказываются материалы строительных комплексов Борисфена первого этапа его существования.
Сам факт наличия среди жителей этого поселения значительного числа варваров заставляет предполагать в составе функционировавших здесь тогда же землянок и полуземлянок и довольно заметное число жилищ, принадлежавших именно этой категории населения. Иными словами, есть все основания думать, что в простых грунтовых сооружениях Борисфена в течение всего раннего периода жили как сами эллины, так и вчерашние выходцы из числа аборигенного населения хинтерланда. Равным образом нет сомнений также и в том, что такое совместное проживание должно было способствовать довольно быстрой, пусть даже для начала чисто внешней, эллинизации варваров.
Указанное обстоятельство серьезно затрудняет, но отнюдь не сводит к нулю, как полагает ныне значительная часть исследователей, возможность более или менее оправданного этнокультурного определения обитателей отдельных построек Борисфена, да и других поселений Нижнего Побужья архаического времени. Некоторые надежды в этом отношении дает, кстати, недавно установленная C. Л. Соловьевым статистически достоверная корреляция различных типов жилищ раннего Борисфена с вполне определенными формами лепной посуды, сопутствующей этим типам строительных комплексов (Соловьев. 1989. С. 14-15; 1999. Р. 44. Fig. 19). Следует учитывать и то, что выбор конкретного типа (формы) дома, который строили себе оказавшиеся на новом месте туземцы, хотя бы на первых порах должен был диктоваться достаточно определенными требованиями их собственной традиции.
64
Как бы то ни было, но мы уже в самом начале нашего анализа можем вполне уверенно констатировать наличие в составе строительных комплексов конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. по меньшей мере двух генетически, по-видимому, совершенно несвязанных между собой типов жилищ Борисфена, а именно: круглых или овальных в плане, находящих себе прямые аналогии прежде всего среди варварских памятников Карпато-Дунайского бассейн пред- и раннеколонизационного периодов, Добруджи, в частности (см., например: Irimia. 1974. Р. 78. Fig. 2b; Р. 82. Fig. 4а), и четырехугольных, явно подражавших грунтовым сооружениям лесостепной зоны Поднепровья. Поэтому у нас, как кажется, есть серьезные основания считать, что «независимые» материалы строительных комплексов древнейшей колонии Нижнего Побужья — Борисфена — также подтверждают вывод о разноэтничности пришлых варваров, сделанный нами ранее на основании данных лепной керамики этого памятника.
Вместе с тем, отмечая это, следует предполагать все же, что к числу жилых комплексов варваров Борисфена должны были принадлежать по преимуществу наиболее примитивные по своему исполнению грунтовые постройки архаического времени. При этом мы, разумеется, весьма далеки от мысли при любых условиях настаивать на обязательности именно такого подхода к решению вопроса об этнокультурной атрибуции конкретных строительных комплексов этой колонии. Уже само наличие среди варварских жилищ раннего железного века лесостепной зоны Северного Причерноморья вполне добротных и явно рассчитанных на круглогодичное функционирование построек неоспоримо указывает на принципиальную возможность создания туземцами здесь, на территории Борисфена, подобных же сооружений. Дело, однако, состоит в том, что, несмотря на упомянутое обстоятельство, наиболее монументальные и обустроенные, т. е. обладавшие особо надежными средствами защиты от зимних холодов, грунтовые жилища апойкии все-таки логичнее всего связывать с жизнедеятельностью и более теплолюбивых, нежели аборигены, сынов солнечной Эгеиды.
Следуя вполне резонному замечанию С. Д. Крыжицкого, допускающего возможность использования в качестве этнопризнаков «отдельных конструктивных особенностей» землянок (Крыжицкий. 1982. С. 148), к числу такого рода сооружений предпочтительнее всего относить те комплексы, в интерьере которых, наряду с печами и очагами, обнаружены детали устройств, совершенно неизвестных за пределами самой зоны расселения эллинов. Заметим сразу, что одним из наиболее ярких и, на наш взгляд, достаточно оригинальных элементов внутреннего убранства нижнебугских грунтовых построек является, пожалуй, так называемый столик — площадка в виде небольшого (не более 1,0 х 1,0 х0,3 м) четырехугольного в плане останца из материкового суглинка или сооружения из глины и камня, рас
65
положенного, как правило, у южного борта котлована землянок (см., например: Мазарати, Отрешко. 1987. С. 8, 13-14; Соловьев. 1989. С. 8; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 35). Не менее показательным в этом же смысле, по всей видимости, должно являться и спорадическое употребление борисфенитами камня при возведении внешних стен строений, поскольку, как известно, последний не нашел сколь-либо заметного применения в строительном деле варваров Северного Понта раннего железного века.
Впрочем, отмечая это, приходится признать, что и все вышеизложенное отнюдь не может гарантировать нас от ошибок при определении этнокультурной принадлежности обитателей отдельных сооружений. Более того, этому вряд ли способно помочь даже наличие в материалах каких-то особенно примечательных с точки зрения культурной принадлежности бытовых остатков жизнедеятельности их обитателей, например, той же лепной керамики, поскольку последняя в конечном счете могла принадлежать туземцам, по тем или иным причинам оказавшимся в составе постоянных домочадцев греческого колониста. Речь в данном случае идет о другом — об одном из возможных направлений поиска путей реальной оценки удельного веса жилищ Борисфена раннего этапа его существования, которые могли бы быть связаны с постоянно живущими здесь эллинами.
Рассматривая теперь под указанным углом зрения имеющуюся в распоряжении современных исследователей выборку грунтовых построек Борисфена конца VII — третьей четверти VI в. до н. э., нельзя не прийти к заключению, что подавляющая часть землянок и полуземлянок этого времени вряд ли может рассматриваться в качестве места, пригодного для круглогодичного обитания выходцев из Ионии. На такую роль претендуют лишь немногие комплексы — не более одной четверти или даже одной пятой массива. При этом в числе последних в первую очередь следует назвать необычно большую (около 27 м2) и весьма основательную по своему исполнению четырехугольную в плане постройку с печами и очагами — XI, — борта глубокого (около 1,0 м) котлована которой были обложены по периметру мощными каменными стенами (Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 36).
Возвращаясь снова к вопросу о причинах застойного характера строительного дела древнейшей колонии Нижнего Побужья, мы, как представляется ныне, можем допустить теперь, наряду с прочим, что констатированный нами ранее стихийный или, лучше сказать, нерегламентированный облик застройки поселения конца VII — третьей четверти VI в. до н. э. во многом определялся и присутствующими здесь разноэтничными туземцами. В заключение заметим, что какая-то, возможно даже весьма значительная, часть этой застройки и, прежде всего, разумеется, дома, напрочь ли-
66
шенные постоянных «приборов» отопления, могли использоваться населением колонии, как эллинами, так и варварами, либо в хозяйственных целях, либо даже временно, т. е. в основном летом, на период торгового сезона.
Среди наиболее вероятных причин, побуждавших отдельных варваров или даже целые группы фракийцев и жителей лесостепной зоны Поднепровья и Побужья к переселению на территорию Борисфена, исходя из всего вышесказанного, следует, по-видимому, отметить в первую очередь стремление туземцев к установлению непосредственных экономических контактов с греческими торговцами. Следует допускать также, что на начальной фазе освоения экономического потенциала района колонисты, испытывая острый недостаток дешевых рабочих рук, могли содействовать этому процессу. Немаловажным фактором, способствовавшим вовлечению аборигенов в культурную орбиту греков, должно было стать, наконец, и стремление молодых переселенцев обзавестись женами из числа местных женщин.
Впрочем, социально-правовой статус варварской знати населения апойкии фактически почти не определим. Крайне небольшое число с трудом поддающихся интерпретации археологических свидетельств, таких, например, как присутствие в раннем некрополе Борисфена практически безынвентарных скорченных захоронений людей, по большей части не имеющих сколь-либо надежных аналогий в синхронных материалах собственно эллинских могильниках метрополии и в силу этого обычно трактуемые как варварские (см., например: Копейкина. 1981. С. 169-170), наличие там же богатого скифского погребения с золотыми украшениями в полусожженном деревянном склепе, непрерывное изготовление обитателями поселения относительно грубой лепной керамики туземного облика в условиях наличия более или менее доступной и, несомненно, более качественной кружальной и т. д., позволяет лишь предполагать какой-то спектр имущественных и общественных состояний борисфенитов местного происхождения — от лично свободных и даже вполне состоятельных до каких-то форм зависимости. И это все.
Сходное впечатление возникает, впрочем, и при анализе текста ряда наиболее ранних эпиграфических памятников Борисфена и Ольвии, свидетельствующих, как полагает Ю. Г. Виноградов, в пользу чрезвычайно развитой социальной структуры населения Нижнего Побужья уже середины VI — начала V вв. до н. э. (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 392-393; 1989. С. 66, 75-76; см. также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 93-94).
Что же касается хозяйственной стороны дела, то, как представляется, первые туземцы Борисфена не были использованы греками для возделывания земли в окрестностях этой апойкии в сколько-нибудь значительных масштабах, что может быть объяснено их нехваткой или опять-таки торгово-сырьевой по преимуществу направленностью экономики раннего поселения.
67
2.2. Характер и пути формирования сельского населения в окрестностях греческих колоний Северо-Запалного Причерноморья
Середина — вторая половина VI в. до н. э. стала поворотным моментом в истории Северо-Западного Причерноморья. Именно в это время здесь возникает целый ряд новых поселений ионийцев — Томы в Добрудже, Никоний и Тира в Нижнем Поднестровье, Керкинитида на побережье Северо-Западного Крыма. Как полагают исследователи, столь резкое нарастание колонизационной деятельности греков в значительной мере было обусловлено появлением в Причерноморье новых контингентов эмигрантов. Напомним также, что основная причина этого появления вполне резонно связывается ныне с событиями внутриполитической жизни самой метрополии — главным образом с военным захватом эллинских центров Малой Азии персидской державой Ахеменидов (см., например: Рубан. 1990. С. 86; Русяева. 1990. С. 6).
Одним из наиболее значительных результатов резкого увеличения числа эпойков в северо-западной части Понта стало прежде всего ускоренное развитие старых ионийских колоний этого района, свидетельством чего являются хорошо известные факты археологии Нижнего Побужья.
Как показывают результаты археологических исследований, уже в конце третьей четверти VI в. до н. э. на территории Борисфена намечается заметный подъем строительства, причем, по-видимому, не только жилого, но и общественного назначения (Копейкина. 1975; 1981 б). Более того, есть все основания считать, что здесь, по крайней мере на отдельных участках, работа велась, как и в Ольвии, по заранее разработанному плану (Копейкина. 1975. С. 188-189; Виноградов Ю. Г. 1983. С. 387; Соловьев. 1989. С. 9-10; 1999. Р. 64 ff.). Особенно примечательным в этой связи является изменение самого характера сооружений: отныне намечается довольно быстрый и решительный переход к наземным постройкам эллинских типов.
Параллельно с этим строительством идет бурное развитие и самой Ольвии. Во второй половине VI в. до н. э. эта колония предстает перед нами уже в виде вполне сложившегося городского центра, занимающего большую часть площади, которую он охватывал позднее, в период своего наивысшего расцвета, имеющего выделенный теменос, агору с общественными зданиями (Карасев. 1964; Копейкина. 1975; 1976) и обширные жилые кварталы, состоявшие первоначально, правда, почти исключительно из небольших землянок и полуземлянок различной формы, но, как правило, вполне аналогичных борисфенитским (Крижицький, Русяева. 1978; Крыжицкий. 1982. С. 11-15). Именно эти землянки и полуземлянки на поверку оказываются наиболее ярким и чуть ли не единственным признаком воздействия местной
68
северопричерноморской традиции на культуру ольвиополитов. Судя по минимальному (не более 1-4%) удельному весу туземной лепной посуды в керамическом комплексе раннего города (Марченко К. К. 1972. С. 62-63. Табл. 1 ) количество жителей варварского происхождения в составе жителей, вероятнее всего, было самым низким среди поселений архаического времени Нижнего Побужья. Нельзя, впрочем, полностью сбрасывать со счетов и того обстоятельства, что в данном случае используемый нами критерий для оценки удельного веса аборигенов является менее показательным, чем обычно. Следует предполагать, что центр полиса с момента своего зарождения обладал не только наиболее мощным культурным потенциалом, что само по себе должно было вести к более быстрой, чем на других поселениях, адаптации варваров, но, вполне вероятно, и довольно развитым керамическим производством и что, следовательно, нужда в изготовлении местными жителями своей собственной, относительно примитивной посуды в таких условиях могла оказаться незначительной.
Вернемся, однако, к событиям середины — второй половины VI в. до н. э. Главные перемены этого времени происходили, по всей видимости, все же за пределами территории греческих апойкий северо-западной части Понта, в их окрестностях, где также с начала третьей четверти VI в. до н. э. начинается ускоренное развитие сельского населения. Выше уже отмечалось, что начало этому процессу было положено еще в первой половине столетия, когда по соседству с древнейшим торговым центром Северной Добруджи — Истрией, а затем и в Нижнем Побужье, рядом с Борисфеном, появляются первые признаки зарождения стационарной жизни. Однако столь же очевидно и то, что лишь в середине и особенно второй половине VI в. до н. э. этот процесс получает новый мощный импульс для своего последующего развития.
Несмотря на все еще весьма значительные пробелы в наших знаниях, есть все основания полагать, что к рубежу VI-V вв. до н. э. в основных зонах прямой греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья уже функционировало несколько десятков относительно небольших сельских поселений. Следует напомнить также, что если к настоящему моменту в окрестностях Истрии археологическим путем зафиксировано не более чем 10-15 объектов такого рода, а в Нижнем Поднестровье лишь 11 (Охотников. 1983; 1987. С. 10; ср. 1990. С. 6), то в Нижнем Побужье, где сохранность археологических памятников пока несколько лучше, их насчитывается ныне уже более 100 (Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 10 сл.) — рис. 3. Нет никакого сомнения также и в том, что в действительности количество таких поселений было еще значительнее, поскольку какая-то часть наиболее ранних комплексов должна была погибнуть в процессе современной береговой абразии или, как в Добрудже, оказалась затопленной водами лагун. Как бы то ни было, можно предполагать, что речь идет о весьма заметном хозяйст-
69
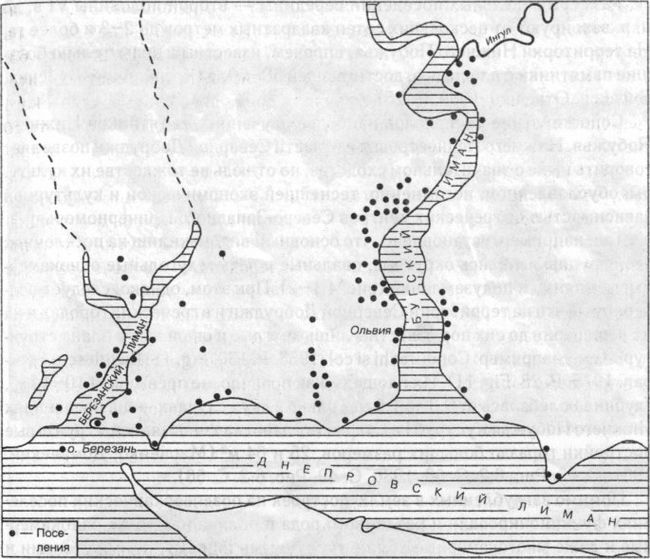
венном, культурном и, разумеется, демографическом явлении в античной истории названного района «пограничья».
Что касается облика подавляющей части памятников этого типа, то, очевидно, наиболее серьезные исследования в этом направлении проведены в последние годы только для районов Нижнего Поднестровья (Охотников. 1990) и Нижнего Побужья (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 3-95; Отрешко. 1990а).
Как установлено, абсолютное большинство позднеархаических поселений было расположено либо на берегах лиманов и заливов, либо вдоль больших балок и ныне высохших речек. Судя по данным разведок и раскопок, в их составе можно выделить по крайней мере два принципиально различных вида — постоянные селища с выраженным культурным слоем, жилыми и хозяйственными комплексами и поселения без четко выраженного слоя, трактуемые как сезонные стоянки пастухов (Бураков, Отрешко, Буйских, Назарчук. 1975. С. 263).
70
Размеры отдельных поселений середины — второй половины VI в. до н. э. варьируют от нескольких сотен квадратных метров до 2-3 и более га. На территории Нижнего Побужья, впрочем, известны и значительно большие памятники с площадью, достигающей 50-60 га (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 25).
Сопоставление материалов наиболее изученных памятников Нижнего Побужья, Нижнего Поднестровья и отчасти Северной Добруджи позволяет говорить ныне о значительном сходстве, но отнюдь не тождестве их культуры, обусловленном, несомненно, теснейшей экономической и культурной зависимостью от греческих центров Северо-Западного Причерноморья.
Так, например, установлено, что основным видом жилищ на поселениях этой группы являлись округлые, овальные и четырехугольные однокамерные землянки и полуземлянки (рис. 4.1-2). При этом, однако, следует подчеркнуть, что на территории Северной Добруджи и в греческих городах и на их периферии до сих пор известны лишь круглые и овальные в плане структуры (см., например: Condurachi si col. 1953. P. 130. Fig. 18; Rädulescu, Scorpan. 1975. P. 28. Fig. 11). Их площадь, как правило, не превышала 10-14 м2, глубина колебалась от 0,3 до 1,5 м. Только в двух случаях — на поселениях Нижнего Побужья Куцуруб I и Старая Богдановка 2 — выявлены грунтовые постройки гораздо больших размеров: 25 и 64 м2 (Марченко, Доманский. 1981. С. 65. Рис. 6.2. С. 63; 1986. С. 49. Рис. 6.2. С. 56).
Помимо заглубленных в землю построек на позднеархаических поселениях функционировали и различного рода и облика наземные однокамерные и даже многокамерные дома с турлучными или сырцовыми стенами и цоколями, выложенными из камня.
Судя по культурным остаткам, обитатели этих поселений занимались в основном земледелием и скотоводством. Большое количество импортных греческих изделий, прежде всего разнообразной керамики, находки на наиболее ранних пунктах так называемых монет-стрел, а со второй половины VI в. до н. э. в Нижнем Побужье и Поднестровье — монет-дельфинчиков говорят о развитии начальной фазы товарно-денежных отношений. Широкое распространение получило рыболовство, носившее, быть может, даже товарный характер. Очень небольшое значение имела охота на диких животных. Ремесла в условиях налаженного товарообмена с греческими центрами на подавляющем большинстве поселений развития не получили.
Динамика развития экономической базы новых поселенцев при относительной изолированности от неблагоприятных внешних воздействий со стороны причерноморских варваров в настоящее время, пожалуй, лучше всего может быть проиллюстрирована материалами одного из поселений Нижнего Побужья — Старая Богдановка 2 (см.: Марченко, Доманский. 1981; 1982; 1983а). Исследования целого ряда лет позволили открыть здесь группу стро-
71
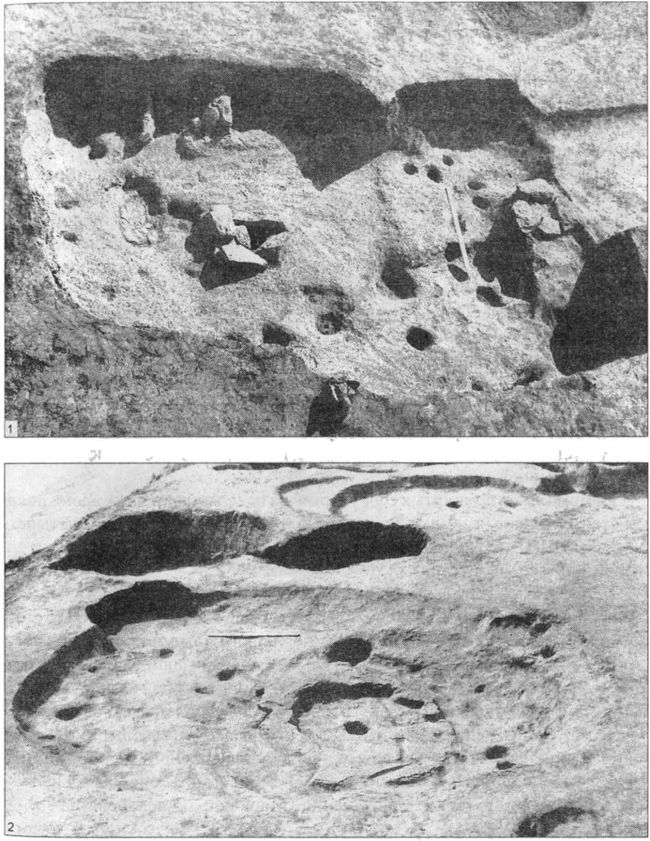
Рис. 4. Остатки землянок и полуземлянок на сельских поселениях Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.
(1 — поселение Старая Богдановка 2; 2 — поселение Куцуруб 1 )
72
ений из 23 землянок и наземных сооружений, представляющих, по всей видимости, единый комплекс, функционировавший с начала последней трети VI в. до н. э. по первую четверть следующего столетия. В соответствии с полученными наблюдениями в развитии этого комплекса можно выделить по крайней мере три последовательных периода, примерно характеризующих существенное расширение строительных и хозяйственных возможностей обитателей поселения в течение жизни одного-двух поколений.
В первый период на незастроенном участке поселения выкапываются две круглые и, по-видимому, две четырехугольные землянки. По прошествии весьма непродолжительного отрезка времени все эти постройки засыпаются, а на их месте или в непосредственной близости строятся частично одновременно, частично последовательно восемь четырехугольных, одна подтрехугольная, две овальные землянки и, возможно, одно круглое (в виде юрты) сооружение. Одновременно на поселении выкапывается целый ряд хозяйственных ям различного назначения.
Наиболее серьезные, кардинальные перемены происходят, однако, в самом конце VI — начале V в. до н. э., когда вся ранее освоенная площадь комплекса нивелируется, частично перекрывается добротной каменной вымосткой и на месте ранее существовавших землянок возводятся два слегка заглубленных в землю прямоугольных однокамерных дома с каменными цоколями и сырцовыми стенами.
Помимо уже упомянутых сооружений на поселении в это же время появляются и типично наземные постройки, в том числе три небольших четырехугольных одно-двукамерных дома площадью около 8-9 м2 с каменными цоколями и сырцовыми стенами.
Наиболее показательными в этой серии являются, однако, остатки пока уникального для Нижнего Побужья да и всего Северо-Западного Причерноморья позднеархаического времени большого наземного здания около 790 м2, возведенного обитателями поселения в некотором удалении от жилых домов, на месте предшествовавшей ему самой крупной из до сих пор известных в этом районе четырехугольной землянки площадью около 64 м2 (рис. 5.1). Существенно отметить также, что рядом с этим большим и, по-видимому, общественным по своему назначению зданием, на обрывистом берегу лимана одновременно было создано монументальное каменное сооружение явно культового назначения (Марченко, Головачева. 1985) — рис. 5.2.
Вместе с тем, отмечая предельно динамичное развитие во времени Старой Богдановки 2 и ряда других сельских поселений в окрестностях греческих апойкий Северо-Западного Причерноморья, на территории которых наблюдается довольно быстрый, хотя, по-видимому, далеко не во всех случаях последовательный переход от сооружения относительно простых грунтовых
73
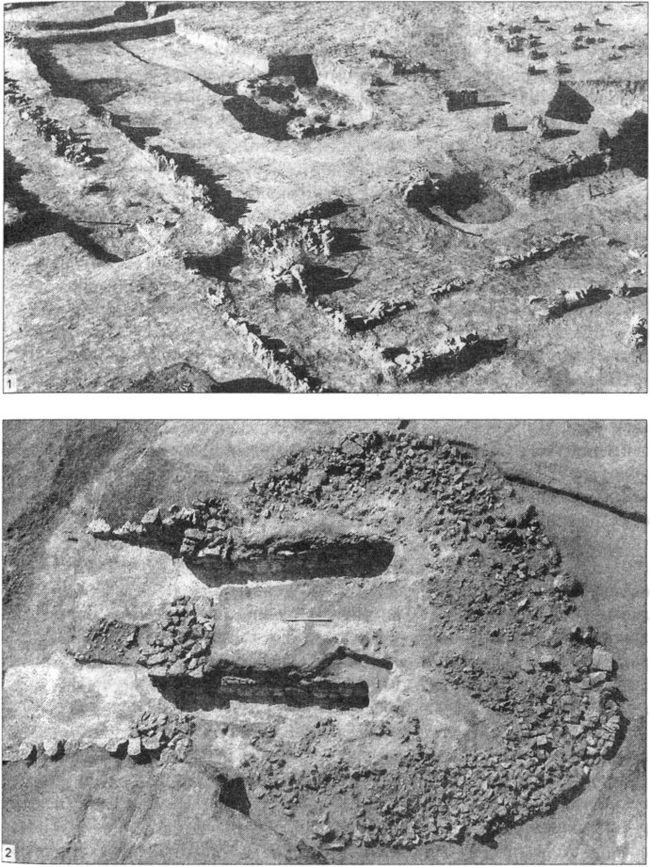
Рис. 5. Остатки наземных сырцово-каменных построек начала V в. до н. э. на поселении Старая Богдановка 2
74
жилищ к более совершенным, но, несомненно, и более трудоемким сырцово-каменным наземным домам, нельзя не заметить, что такая картина развития является все же скорее исключением, чем непременным правилом. В целом же строительное дело значительного большинства рядовых памятников этого времени демонстрирует нам крайний примитивизм, консервативность, однообразие и экстенсивный характер использования пространства под застройку. Один из наиболее наглядных примеров такого рода традиции дает нам, пожалуй, опять-таки нижнебугское поселение Куцуруб I, где в течение всего позднеархаического периода функционировал лишь единственный тип жилых и хозяйственных построек — круглые землянки и полуземлянки (Марченко, Доманский. 1986).
Каким же, однако, путем шло формирование сельского населения в основных зонах греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья? Кто населял аграрные поселки, расположенные на периферии греческих апойкий этого района? И наконец, какими могли быть отношения этих поселений с местными эллинскими центрами?
На все эти и аналогичные этим вопросы в современной историографии Северо-Западного Причерноморья античной эпохи даются весьма различные ответы. Впрочем, все они в несколько упрощенном виде могут быть сведены к двум основным точкам зрения. Приверженцы первой и, как кажется, наиболее распространенной из них убеждены в том, что жителями всех этих многочисленных аграрных поселков являлись прежде всего, или почти исключительно, сами греческие колонисты, и что в силу этого культурная, экономическая и политическая роли варварского компонента, ежели таковой здесь и имелся, были ничтожными. Сторонники второй точки зрения, вполне признавая примат греческого воздействия на демографическую и, конечно же, экономическую ситуацию в районах, охваченных колонизационным процессом, одновременно полагают все же и значительное по своим размерам участие туземцев в формировании культурного облика и этнического состава сельского населения Нижнего Побужья, Поднестровья и Северной Добруджи.
Вполне естественно также, что в соответствии с этими различными представлениями об этническом составе сельского населения совершенно различно решаются и остальные вопросы истории, например, о взаимоотношениях жителей аграрных селищ Северо-Западного Понта с греческими городскими центрами этого региона. В первом случае эти отношения со всей очевидностью предстают перед нами как чисто внутренние, т. е. протекавшие в рамках самой эллинской общины переселенцев; во втором же — центр тяжести заметно смещается вовне — в основном к отношениям греческих колонистов с местными варварами. Таким образом, мы, по всей видимости, вполне можем констатировать в настоящее время наличие весьма сущест
75
венного, если не сказать более, принципиального расхождения по интересующей нас проблеме.
Перейдем теперь к рассмотрению первой и, как кажется, наиболее обоснованной точке зрения.
Основным отправным пунктом признания безусловно эллинской принадлежности сельского населения приморских территорий северо-западной части Понта стал в недавнем прошлом тезис о сугубо аграрной форме греческой колонизации Северного Причерноморья в целом. Совершенно очевидно также, что важнейшие положения именно такого понимания мотивов переселения эллинов в столь отдаленный край античной ойкумены были впервые последовательно сформулированы В. В. Лапиным (1966). По мнению этого исследователя, заселение берегов Северного Понта было процессом более или менее одновременным (Лапин. 1966. С. 175, 183) и носило преимущественно массовый характер, будучи по своей сути продолжением более древней стихийной миграции догосударственного периода (Лапин. 1966. С. 33). Как полагал В. В. Лапин: «Города уже на этом (т. е. раннем. — К. М.) этапе колонизации не были единственными и изолированными поселениями греков. Одновременно с их возникновением основывались и поселения хоры. Именно эти-то сельские поселения и являлись основным продуктом и главным содержанием имманентного колонизационного процесса» (Лапин. 1966. С. 183). А коль скоро это так, то вполне логично думать, что создателями и жителями аграрных поселков архаического времени Северного Причерноморья в целом были сами греческие переселенцы.
Этот принципиально важный для нас вывод, казалось, совершенно естественно вытекал не только из беспристрастного анализа движущих сил и социально-экономических основ колонизационной практики эллинов, он вроде бы хорошо подтверждался и всем ходом внутренней критики конкретноисторических документов Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, проведенной В. В. Лапиным.
С тех пор в обосновании рассматриваемой нами точки зрения на характер и пути сложения сельского населения в районах греческой колонизации не произошло существенных изменений. Все усилия сторонников эллинской принадлежности жителей аграрных поселков были направлены главным образом по пути накопления и подбора дополнительных конкретных аргументов и фактов, детализирующих и подкрепляющих вышеизложенную позицию В. В. Лапина.
Лишь в самое последнее время была предпринята серьезная попытка существенно модифицировать устоявшуюся картину формирования сельского населения. Весьма примечательно, что радикальные изменения в ее облик попытались внести сами приверженцы эллинской принадлежности рядовых поселений, расположенных в окрестностях греческих центров (см.:
76
Крижицький, Буйських. 1988; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 22-95). Основанием для столь неожиданного поступка стали результаты непосредственного изучения планировки наиболее крупных памятников Нижнего Побужья — так называемых агломераций. При этом было обращено особое внимание на отсутствие в их пространственной структуре сколь-либо отчетливых признаков регулярности, выраженной сети улиц и остатков комплексов общественно-административного, культового и торгового назначения (Крижицький, Буйських. 1988. С. 6). Более того, было замечено, что буквально все сельские поселения окрестностей Борисфена и Ольвии имели довольно-таки примитивный тип застройки в виде отдельных более или менее стандартных и к тому же весьма скромных по своему облику хозяйств или усадеб, состоявших, как правило, из 5-6 однокамерных жилых землянок и полуземлянок и целого ряда зерновых ям и хозяйственных сооружений (Крижицький, Буйських. 1988. С. 3-5; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 26-31). Совершенно естественно, что все это вместе взятое никак не вязалось с существующими представлениями об античной строительной традиции (Крижицький, Буйських. 1988. С. 2). Требовалось срочное объяснение этого явно странного обстоятельства. И оно было найдено, причем найдено в рамках все тех же воззрений В. В. Лапина.
Как предположили исследователи, констатируемое ими своеобразие архитектурно-планировочного решения наиболее крупных рядовых поселений Нижнего Побужья является прямым следствием или, лучше сказать, отражением относительной имущественной бедности, а также правовой и социально-экономической однородности их жителей, прибывших сюда, т. е. на берега Северо-Западного Понта, из сельских районов Малой Азии и в силу этого, по-видимому, плохо знакомых с требованиями (правилами) городского строительства (Крижицький, Буйських. 1988. С. 8; ср. Лапин. 1975).
Но этого мало! То же самое своеобразие аморфной кустовой застройки «агломерации», да, очевидно, и всех остальных аграрных селищ Нижнего Побужья, послужило для этих исследователей источником еще одного знаменательного вывода. Оно было истолковано как прямое указание на стихийность перемещения греческих крестьян в Северное Причерноморье. При этом, учитывая весьма значительные размеры самих агломераций, занимавших территорию до 50-80 г., такое перемещение, по их мнению, должно было иметь массовый характер (Крижицький, Буйських. 1988. С. 5-6). Таким образом, резюмируют специалисты, в потоке греческой колонизации Северного Причерноморья VI в. до н. э. выделяется не одна, как это считалось до сих пор, а две основные линии: «Первая — организованная, целенаправленная колонизация полисного характера, в результате которой возникают такие апойкии, как Березань и Пантикапей; другая — стихийная, сугубо аграрного свойства, в ходе которой и возникали большие нерегламентиро-
77
ванные специальной организацией поселенческие структуры типа исследованных в Нижнем Побужье агломераций. В массовости колонизации второй линии были заложены предпосылки для возникновения Ольвии» (Крижицький, Буйських. 1988. С. 6; ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 12).
Вот, пожалуй, вкратце и все, что необходимо специально отметить в связи с рассмотрением наиболее распространенной точки зрения на характер и пути формирования сельского населения в районах колонизации как Северного Причерноморья в целом, так и его северо-западной части в особенности.
Перейдем теперь к определению степени достоверности данной позиции. Начать анализ следует с главного — с подтверждения надежности ее исходного пункта, декларирующего преимущественно аграрный характер греческой колонизации интересующей нас территории. Как представляется ныне, такое понимание процесса переселения эллинов на берега Северного Причерноморья не может вызвать сколь-либо серьезных возражений в принципе. Помимо общих соображений о социально-экономической и политической значимости в архаической Греции относительной стенохории, перманентно вызывавшей разного рода стасисы и отток лишних людей в колонии, на сей счет имеются и вполне конкретные данные, определенно указывающие на особую хронологическую и, весьма вероятно, причинно-следственную сопряженность отдельных импульсов переселения греков в Причерноморье с периодическим разорением сельской местности эллинских городов Малой Азии, вызванным опустошительными войнами ионийцев с Лидийским царством и Мидией. «Все это, — отмечают, в частности, Г. А. Кошеленко и В. Д. Кузнецов, — породило своего рода кризис в Ионии. Он выражался в нехватке средств существования, прежде всего земли» (Кошеленко, Кузнецов; 1990. С. 38).
Итак, повторяем, сам по себе аграрный характер греческой колонизации Северного Причерноморья в целом не вызывает сомнений. Вместе с тем признание данного обстоятельства отнюдь не снимает с повестки дня вопрос об особой роли торговли в колонизационном движении на его раннем этапе. В этой связи достаточно лишь напомнить о существовании довольно-таки многочисленных, разнообразных и, как кажется, весьма красноречивых археологических, нумизматических и даже эпиграфических памятников позднеархаического времени, прямо свидетельствующих в пользу значительного удельного веса, который занимали купцы и ремесленники в экономической деятельности древнейшей апойкии региона — поселения на острове Березань. Впрочем, даже с учетом возможного внесения определенных корректив в мотивацию переселения наиболее ранней волны ионийцев ее аграрная доминанта в районе северо-западной части Понта, по крайней мере с середины VI в. до н. э., представляется более чем вероятной. Заметим сразу, что с этих позиций по меньшей мере искусственным кажется
78
и прямое противопоставление двух линий колонизации, которые якобы имели место в северопонтийском регионе VI в. до н. э. В таком противопоставлении нет решительно никакого резона, поскольку совершенно очевидно, что и в первом, и во втором случаях, т. е. безотносительно к месту жительства — будь то город или маленькая деревенька, — основным родом экономических занятий подавляющего числа переселенцев практически должно было стать сельское хозяйство. Другое дело, конечно, как это происходило в действительности.
Однако прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к рассмотрению так называемой стихийной линии переселений ионийцев в VI в. до н. э. Нельзя не заметить, что выяснение жизнеспособности этой модели имеет для нашей темы первостепенное значение: ведь речь идет как раз о вполне конкретном и, как полагают ее сторонники, едва ли не единственно возможном пути формирования сельского населения в зонах колонизации Северного Причерноморья (Крижицький, Буйських. 1988. С. 7) или, по крайней мере, Нижнего Побужья (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 41).
Начать анализ следует с самого термина «стихийность». Несмотря на чрезвычайную лапидарность сопровождающего это определение пояснительного текста, создается вполне отчетливое впечатление, что он по своей сути мыслится как полное отрицание какого-либо организованного или, говоря словами С. Д. Крыжицкого и С. Б. Буйских, «регламентированного специальной организацией» начала в массовом переселении греческих земледельцев. Все остальные важные свойства этой стихийности устанавливаются далее только в ее сопоставлении с другой линией колонизационного движения — так называемой полисной. Правда, выше мы уже отмечали определенную близость этих двух «линий» переселения, во всяком случае в той мере, в какой дело касается их социально-экономической основы. Однако же нельзя не заметить и другого — что во всем остальном они явно различны.
Таким образом, перед нами смоделирована совершенно особая форма колонизации позднеархаического времени. Следует сразу же подчеркнуть, что в данном виде она являет собой нечто несравненно большее, чем просто развитие ранней идеи В. В. Лапина о генетической связи процесса заселения эллинами берегов Северного Понта в VI в. до н. э. с более древней стихийной миграцией греков догосударственного периода. По существу это и есть сама миграция, причем миграция, представленная нам в чистом, мы бы даже сказали, вполне современном облике, когда за море в поисках лучшей доли отправляются не отдельные организационно так или иначе сплоченные коллективы единомышленников, а изначально совершенно изолированные друг от друга обездоленные крестьянские семьи, неизбежно вступавшие в политические контакты и объединения только по прибытии на места
79
своего нового расселения (ср. Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 40).
Нет нужды специально распространяться по поводу весьма больших сомнений которые уже в первом приближении вызывает такая картина миграции хотя бы и части ионийцев. Мало того что ее существование, по сути дела, никак не фиксируется письменными источниками. Она в принципе противоречит и всей совокупности жестко регламентированных социально-политических, общественных и экономических связей и структур эллинского мира архаической эпохи. Но дело, естественно, не только или, точнее, не столько в этом. В конце концов, дошедшие до наших дней на сей счет отдельные справки античной традиции вряд ли способны полностью отражать реально действовавший механизм организации греческих апойкий в различных частях древней ойкумены. Гораздо важнее то, что наибольшие сомнения в возможности существования сугубо стихийного варианта переселения земледельцев Ионии в Северное Причерноморье возникают как раз в сфере его конкретно-исторического обоснования.
Нетрудно заметить, что в основе этой идеи лежит попытка выявления социально-политической специфики архитектурно-планировочного облика одного из типов археологических памятников Нижнего Побужья второй половины VI — начала V в. до н. э. — так называемых агломераций. Следует сразу же сказать, что сама по себе постановка такой работы вполне закономерна и методически оправдана. Априорно, однако, очевидно и другое — исключительная сложность ее однозначного и глубокого разрешения, связанная прежде всего с принципиальным различием сопоставляемых при этом исторических источников — архитектурно-планировочных структур древних поселений, представленных разрозненными фактами археологии, с одной стороны, и социально-политической сферой греческой культуры архаического времени, приближенно реконструируемой на основе эпиграфических и литературных материалов, главным образом позднейшего периода, с другой.
Заметим также, что в данном конкретном случае положение дел усугубляется еще и тем, что накопленная к настоящему времени информация об облике выбранного для такого сопоставления типа памятников крайне обрывочна и, как представляется, все еще не позволяет делать далеко идущие выводы о характере и структуре их застройки. Именно это, последнее, обстоятельство серьезно затрудняет проверку некоторых конкретных замечаний и выводов специалистов.
Не подлежит сомнению, впрочем, что даже в таких сложных условиях С. Д. Крыжицкому и С. Б. Буйских удалось сделать ряд интересных и, по всей видимости, правильных наблюдений о культурно-историческом облике «агломераций». В их числе назовем следующие: неслучайность или, точ-
80
нее, закономерность появления таких поселений в Нижнем Побужье, отсутствие видимой регулярности в их планировке, невозможность функционального дифференцирования строительных комплексов этих памятников, имущественная и, вероятно, во многом социальная однородность их населения (Крижицький, Буйських. 1988. С. 6-7).
Вместе с тем, оценивая эту попытку в целом, следует признать ее все же крайне дискуссионной. В данной связи прежде всего следует отметить ошибочность мнения авторов о тождественности планировочных структур, которую будто бы выказывают нам буквально все сельские поселения Нижнего Побужья. Накопленная на сей счет информация находится в явном противоречии с таким суждением. Как установлено ныне, среди рядовых памятников этого же района позднеархаического времени имелись поселения с принципиально отличной от просто кустовой организацией застройки. В их числе можно назвать, к примеру, поселение Старая Богдановка 2, где, помимо явных элементов регламентации пространства, требующей от обитателей «куста» неуклонно возобновлять строительство новых жилых и хозяйственных домов в пределах одной и той же, по-видимому, жестко ограниченной территории, хорошо прослеживается и деление площади поселения на районы, застроенные отдельно жилыми и отдельно общественными сооружениями (Марченко, Доманский. 1981; 1999. С. 28 сл.; Марченко К. К. 1985а).
Наибольшие возражения, однако, вызывает теоретическая сторона исследования. Полностью отвлекаясь сейчас от весьма спорного, с нашей точки зрения, мнения о безусловной принадлежности всех рядовых памятников греческому населению, хотя и с примесью какого-то варварского компонента (Крижицький, Буйських. 1988. С. 7), и становясь в данном случае на позицию его авторов, мы все же никак не можем согласиться с четко улавливаемой тенденцией ставить знак равенства между существенно различными структурообразующими явлениями античной культуры — древнегреческим государством и городом. Нетрудно заметить также, что прямое совмещение этих явлений дает в распоряжение исследователей столь же прямой, но по сути своей явно несбалансированный подход к решению стоящей перед ними задачи.
Анализируя под таким углом зрения архитектурно-планировочную составляющую нижнебугских «агломераций», отчасти и других сельских поселений этого района, и не обнаруживая в ней всего того, что, по их мнению, должно быть присуще античному городу, т. е. регулярную планировку, застройку кварталами, систему улиц, агору, священный участок и т. д., авторы естественным образом приходят к выводу и об отсутствии здесь какой-либо государственной организации. Более того, государственной организации, в рамках которой могли бы возникнуть все эти поселения и «агломерации», не обнаруживается и за их пределами, т. е. на всей остальной терри-
81
тории Нижнего Побужья. При этом, заметим, в рассматриваемом исследовании не приводится каких-либо специальных объяснений столь странного суждения. И совершенно напрасно.
Оставляя теперь за рамками общей оценки «стихийной линии» колонизации вопрос о наличии или отсутствии каких-то политических организаций внутри населения самих «агломераций», — здесь мы, пожалуй, вполне готовы согласиться с выводом С. Д. Крыжицкого и С. Б. Буйских и признать, что у нас нет, да скорее всего никогда и не будет сколь-либо весомых оснований видеть в такого рода аграрных селищах отдельные полисы, — должны напомнить все же, что в античной Греции и, прежде всего, в Греции архаического времени были достаточно широко распространены политические образования, не имевшие собственных городских центров, но воспринимавшиеся их гражданами и остальными эллинами как государства (Thuc., I, 5, 4; 10,2; Paus., X, 4). Таким образом, следует полагать, что даже сам по себе факт отсутствия крупного или во всех архитектурно-планировочных отношениях очевидного городского центра в Нижнем Побужье в момент появления здесь «агломераций» или любых иных аграрных выселков еще не дает права напрочь отрицать существование в древнейшем районе греческой колонизации Северного Причерноморья какой-то формы государственной организации, под контролем и при самом непосредственном участии которой могло протекать основание и развитие этих поселений.
Впрочем, если продолжать рассматривать и далее этот район в целом, то среди его наиболее ранних памятников архаического времени можно отыскать и вполне достойных претендентов на роль политического центра. При этом, однако, мы хотели бы обратить внимание на то, что С. Д. Крыжицкий и С. Б. Буйских в своем стремлении доказать жизнеспособность сугубо стихийной модели колонизации невольно предъявляют к облику такого рода центров слишком уж завышенные требования: тут и регулярность застройки, и наличие агоры и теменоса и т. д., и т. п. Конечно же, никто не будет возражать, что для более или менее надежного определения поселения городского типа желательна фиксация хотя бы и части из вышеобозначенных элементов застройки памятника. Однако на практике археологам, к сожалению, зачастую приходится довольствоваться значительно меньшим — одним или двумя признаками. И дело здесь, естественно, не только в том, что речь идет о наиболее ранних и, следовательно, наименее сохранившихся и, как правило, недостаточно исследованных остатках жизнедеятельности апойкий, но и в том, что даже основные выселки греков архаического времени далеко не во всех случаях могли обладать полным набором градообразующих характеристик, тем более надежно закрепленных в их архитектуре.
Исходя из указанных соображений, к числу основных политических центров Нижнего Побужья раннего этапа колонизации следует прежде всего от
82
нести апойкию на острове Березань. Как представляется ныне, для такого решения имеется более чем достаточно оснований. Среди них в первую очередь упомянем свидетельство Евсевия в передаче Иеронима, поместившего дату основания Борисфена (или города Борисфена, как в сирийской версии) на второй год 33-й олимпиады (Euseb., Chron., can. P. 95b., Helm.), т. e. задолго до появления здесь самых ранних «агломераций». Не менее показательными в этом же плане оказываются и материалы археологии памятника заставляющие, к примеру, предполагать весьма значительную степень имущественной и профессиональной неоднородности его уже самых ранних обитателей, что находится в явном контрасте с соответствующими характеристиками, данными С. Д. Крыжицким и С. Б. Буйских населению сугубо аграрных селищ (см.: Крижицький, Буйських. 1988. С. 6). Весьма примечательным для определения политической значимости Березани является недавнее открытие здесь священного участка — теменоса (Назаров. 1998. С. 37-38; 1998 б. С. 114), и, наконец, факт бурного расцвета строительной деятельности на территории апойкии, приведшей к появлению вполне регулярной городской застройки на рубеже третьей и четвертой четвертей VI в. до н. э., т. е. тогда, когда в Нижнем Побужье как раз и стали возникать наиболее крупные сельские «агломерации».
Впрочем, как представляется в настоящее время, никто из исследователей и не сомневается в возможности причислять березанскую колонию к категории полисов. Сказанное в равной мере касается также и авторов «стихийной линии» колонизации, по мнению которых данная апойкия возникла в результате совершенно иной, нежели обычные сельские поселения, — полисной модели колонизации (Крыжицький, Буйських, 1988, с. 6). Однако именно в силу этого, последнего обстоятельства кажется особенно странным и ничем не объяснимым столь внезапный отказ ученых от еще совсем недавно настойчиво проводимой ими же в жизнь вполне плодотворной идеи принадлежности части наиболее ранних аграрных селищ округи Березани данному государству (Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. С. 7). И уж совсем загадочной представляется позиция этих исследователей, которую они заняли относительно другой древнейшей колонии Северо-Западного Причерноморья — Ольвии, причисленной ими, судя по всему, к роду обычных сельских деревенек, с коей никак нельзя связывать существование какой бы то ни было политической организации ионийцев вплоть до последней трети VI в. до н. э. во всяком случае (Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 6-7; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 39-40).
Такое мнение явно противоречит имеющейся в нашем распоряжении информации. При этом оно оказывается под ударом как со стороны данных литературной традиции, относящей основание Ольвии ко времени мидийского владычества в Азии (Ps.-Scymn., 809 Muller) и тем самым как бы косвен-
83
но указывающей на вполне организованный характер вывод этой колонии, так и со стороны самой археологии, прямо свидетельствующей в пользу сушествования на территории этого памятника так называемого второго теменоса, возникшего буквально в момент основания самой апойкии, т. е. где-то во второй четверти VI в. до н. э. (Русяева. 1986. С. 42), когда в Нижнем Побужье еще не функционировало ни одной мало-мальски заметной «агломерации». Впрочем, если даже эти соображения неверны (см.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 40-41), то уж сам факт существования Ольвийского полиса в конце третьей четверти VI в. до н. э., в чем, как уже отмечалось ранее, не сомневаются и вышеназванные исследователи, вполне достаточен для того, чтобы поставить под серьезное сомнение совершенно независимый и стихийный характер формирования сельского населения во второй половине этого столетия в ближайших окрестностях города.
Вот, пожалуй, и все, что хотелось специально отметить в ходе только что проведенной ревизии гипотезы С. Д. Крыжицкого и С. Б. Буйских. Подводя итог сказанному, мы, по всей видимости, можем констатировать отсутствие надежных историко-археологических оснований для признания права на безболезненное существование идеи «стихийной линии» развития аграрной греческой колонизации северо-западной части Понта.
Итак, в поле нашего зрения остается лишь сформулированная еще В. В. Лапиным классическая, если так можно выразиться, точка зрения на путь формирования сельского населения — в результате последовательного и планомерного освоения греческими центрами экономического потенциала близрасположенных районов. Сразу следует признать, что ее общетеоретическая база и большая часть конкретно-исторической аргументации представляется на первый взгляд почти безупречной или, по меньшей мере, гораздо более солидной, нежели в случае с обоснованием стихийного варианта заселения. Во всей концепции изначально настораживает разве что чрезмерная прямолинейность, можно сказать, некоторая упрощенность трактовки исходных данных.
Возьмем, к примеру, теоретическое обеспечение одного из важнейших положений работы В. В. Лапина — о почти полном отсутствии участия варваров в сложении культуры населения районов колонизации Северного Причерноморья на раннем этапе. Почерпнутое в идее Д. П. Каллистова об относительной независимости социально-политической и культурной системы эллинского и варварского миров (Лапин. 1966. С. 184-185), оно было использовано далее только для утверждения неизбежности роста их противоположности во времени. Вместе с тем сами по себе культурные различия двух соседствовавших на берегах Северного Понта миров отнюдь не исключали, а скорее предполагали развитие между ними разного рода контактов. В этой связи достаточно вспомнить хотя бы кочевников степной зоны регио
84
на, постоянно нуждавшихся для нормального воспроизводства своего образа жизни в тесных взаимодействиях с оседлыми земледельцами, к числу которых, несомненно, принадлежали и греческие колонисты. Разумеется, следует думать, что такие контакты в большинстве случаев вряд ли могли вести сразу к сколько-нибудь глубокому взаимопроникновению, а тем более к полной интеграции отдельных подразделений их культур. Такая ситуация более характерна для стадиально близких, одноформационных образований. И все же отвергать с порога саму возможность значительных влияний между системами, находившимися на различных ступенях общественного развития, теоретически недопустимо. Столь же недопустимо, впрочем, не учитывать в этой ситуации и преимущественную односторонность культурного воздействия, направленного главным образом от высшего к низшему. Нельзя, наконец, не принимать в расчет и того обстоятельства, что сила культурной радиации в древних обществах, как правило, обратно пропорциональна расстоянию от своего основного источника.
Таким образом, следует предполагать априорно, что сам по себе факт отсутствия следов значительного воздействия варварской культуры на культуру сельского населения интересующего нас района Причерноморья, будь он даже вполне доказан, не может однозначно свидетельствовать в пользу непременного отсутствия там значительного количества самих туземцев. Более того, проявление такого воздействия в непосредственной близости от греческих апойкий в связи со всем вышеизложенным оказывается до известной степени даже противоестественным, требующим специальных объяснений.
Перейдем, однако, к краткому анализу конкретно-исторического обоснования рассматриваемой точки зрения. Как уже отмечалось ранее, в первом приближении это обоснование до сих пор выглядит во многом убедительным и в ряде случаев базируется на хорошо проверенных материалах и фактах. Впрочем, и на конкретно-историческом уровне не обошлось без существенных изъянов. Далеко не все аргументы выдержали испытание временем. В цепи рассуждений этого исследователя выявились отдельные просчеты и даже ошибки принципиального характера. В их числе назовем только наиболее важные для нас в данном случае. Это, во-первых, в корне неверная этнокультурная атрибуция лепной керамики Северного Причерноморья (см.: Марченко К. К. 1988а) и, во-вторых, явно несбалансированная оценка культурной принадлежности основного типа жилищ архаического времени районов колонизации — землянок и полуземлянок (Крыжицкий. 1982. С. 148). При этом совершенно необходимо отдавать себе отчет в том, что в обоих случаях ошибочная интерпретация источников затрагивает как раз наиболее глубинный уровень традиционно-бытового пласта культуры, где зачастую и проявляются наиболее четко ее этноинтегрирующие
85
и этнодифференцирующие функции. Указанное положение дел, даже безотносительно ко всем остальным доводам В. В. Лапина и его сторонников, вызывает естественное сомнение в окончательной правильности их оценки удельного веса и роли варварского компонента в составе сельского населения приморских районов Северо-Западного Причерноморья архаического времени и заставляет нас провести на сей счет дополнительный анализ фактов. Начать следует с материалов лепной керамики (рис. 6.1 и 6.2).
Итак, накопленные ныне наблюдения свидетельствуют, что:
1 ) изготовление лепной керамики жителями аграрных поселений контактных зон Северо-Западного Причерноморья началось едва ли не с момента появления здесь первых греческих колонистов;
2) ее использование в быту сразу же приняло необычно широкие масштабы, составляя от 10 до 35-40% (без учета амфорной тары) керамических комплексов селищ (см., например: Preda. 1972; Марченко К. К. 1987а. С. 106; Охотников. 1990 С. 19), что, кстати сказать, на порядок выше, нежели на территории местных греческих апойкий;
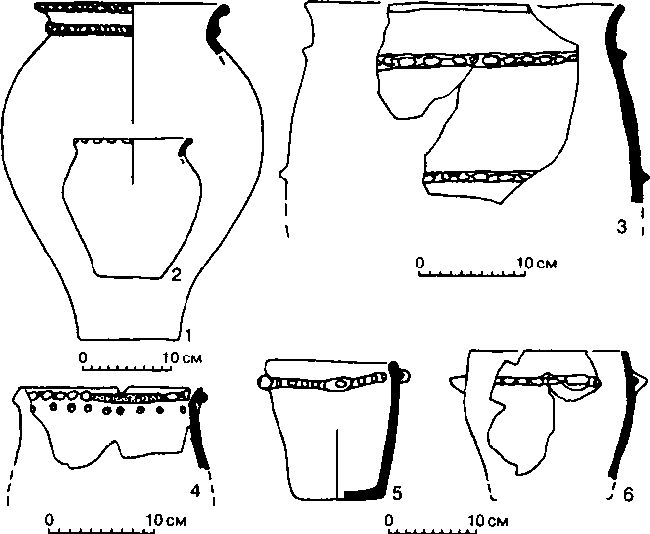
Рис. 6.1. Лепная керамика Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э. Кухонная посуда
86
Рис. 6.2. Лепная керамика Нижнего Побужья VI — первой трети V в. до н. э.
Столовая посуда
3) практически все, за небольшим исключением, так или иначе выделенные типы такой посуды тождественны бытовавшим в это же время на бесспорно варварских поселениях различных районов северо-западной части Понта (см., например: Preda. 1972. Р. 81 ; Марченко К. К. 1987а. С. 105; Марченко, Соловьев. 1988а; 1995а; Охотников. 1990. С. 27-29);
4) трансформация этих типов во времени вполне аналогична наблюдаемой в соответствующих археологических культурах аборигенов;
5) функциональный набор типов лишь в одной части — в группе так называемой столовой посуды — заметно уступает номенклатуре керамики чисто туземных комплексов региона;
87
6) отдельные наиболее изученные поселения контактных зон обладали статистически достоверными различиями как удельных весов используемой в быту лепной посуды, так, и это особенно примечательно, ее типологического состава (см., например: Марченко К. К. 1985а. С. 51; Марченко, Виноградов. 1986. С. 67);
7) и, пожалуй, последнее — различия в наборе типов лепной керамики хорошо фиксируются ныне не только для конкретных памятников в пределах отдельных районов колонизации Северного Понта, но и между самими районами, что в свою очередь в ряде случаев коррелирует с отличиями керамических комплексов вполне определенных историко-культурных областей Понта, например, Карпато-Дунайского бассейна и района лесостепей Днепровского Правобережья.
Какие же могут быть сделаны выводы из указанных фактов и наблюдений? Оставляя за ненадобностью некоторые детали, сразу же перейдем к их изложению.
Изучение материалов лепной керамики сельских поселений, расположенных в районах непосредственных контактов эллинской и варварской культур Северо-Западного Причерноморья архаического времени, со всей определенностью свидетельствует в пользу присутствия в составе их жителей туземного компонента. Размеры этого компонента следует расценивать как весьма значительные и уж во всяком случае превышающие величину удельного веса лепной посуды в комплексах этих памятников. Указанный вывод закономерно вытекает из самого характера воздействия эллинской культуры на быт сельского населения. Как очевидно, в условиях «пограничья» это воздействие закономерно приобретало особую интенсивность и уже в силу этого вело не только к сравнительно быстрому уменьшению количества лепной керамики варваров, но и к заметному обеднению ее состава за счет вымывания из обихода прежде всего более трудоемких и узкоспециализированных типов столовой посуды, постепенно заменяемой более высококачественной и престижной греческой.
Судя по наличию достоверных несовпадений в наборах морфологических типов лепной посуды на поселениях, закономерна постановка вопроса и о культурных отличиях туземцев, населявших окрестности отдельных греческих апойкий. Не приходится сомневаться также в том, что в основе таких различий в принципе могла лежать и этническая специфика. Последняя, однако, в самом общем плане определяется лишь с помощью письменной традиции, уверенно связывающей, к примеру, район Карпато-Дунайского бассейна с территорией расселения преимущественно гето-фракийской культурной общности, а Днепро-Днестровское междуречье — со скифами.
Тот факт, что изменение основных типов лепной керамики в сельских районах греческой колонизации северо-западной части Понта происходило
88
в явном соответствии с трансформацией посуды у варваров хинтерланда, может служить указанием не столько одноразового, как полагают ныне исследователи (Яйленко. 1983. С. 154; Охотников. 1990. С. 58), сколько постоянного притока сюда из глубинных зон Причерноморья свежей крови, либо, наконец, свидетельствовать о присутствии здесь, в составе аборигенов, не только отдельных этнофоров, явно не способных в таких условиях к сколь-либо длительному воспроизводству собственной культурной традиции, но и каких-то относительно более крупных подразделений этносов.
Что же, собственно говоря, ко всему только что сказанному может добавить анализ материалов второго из выделенных нами компонентов археологической культуры сельского населения — так называемых землянок и полуземлянок? К сожалению, сравнительно немного. В данном случае среди прочего в первую очередь необходимо обратить внимание на следующие факты и наблюдения, а именно:
1) сооружение грунтовых жилищ в сельских районах колонизации Северо-Западного Причерноморья началось значительно позднее появления здесь первых греческих колонистов и, таким образом, в принципе в равной мере может быть связано с деятельностью как самих эллинов, так и выходцев из варварского хинтерланда, по тем или иным причинам заинтересованных в установлении самого непосредственного контакта с пришельцами;
2) использование этого вида построек сразу же приняло самые широкие масштабы и составило подавляющую часть одновременно функционировавших строительных комплексов архаического периода;
3) время бытования землянок и полуземлянок в наиболее изученной на данный момент зоне Северо-Западного Причерноморья — в Нижнем Побужье — весьма значительно и практически без перерыва охватывает отрезок в три столетия (Марченко, Соловьев. 1988б), что, по всей видимости, уже само по себе не может быть прямо связано только с относительной узостью строительной базы первых колонистов;
4) в пределах ареалов Нижнего Побужья и Поднестровья, в отличие от Северной Добруджи, где до сих пор известны землянки лишь округлой формы, одновременно функционировало по меньшей мере сразу три разновидности жилищ — круглые, овальные и четырехугольные в плане сооружения;
5) в составе сельских поселений Нижнего Побужья могут быть выделены как памятники, для которых характерно наличие структур буквально всех вышеперечисленных форм (см., например: Марченко, Доманский. 1981), так и селища, на территории которых в течение всего архаического периода их существования бытовала лишь одна форма — круглая (Марченко, Доманский. 1986); какого бы то ни было жесткого районирования различных в этом смысле памятников, однако, пока не отмечено;
89
6) практически все так или иначе выделенные разновидности землянок и полуземлянок, как, впрочем, и сам характер планировочной структуры большинства сельских поселений, застроенных сооружениями такого рода, не имеют сколь-либо надежных аналогов в строительной практике метрополии эллинов, но зато находят себе достаточно близкие параллели в синхронных материалах варварских памятников хинтерланда Северного Причерноморья;
7) следует иметь в виду все же, что номенклатура строительных комплексов в Нижнем Побужье и Поднестровье заметно беднее набора типов построек, известных ныне на поселениях лесостепной зоны Причерноморья;
8) ко всему сказанному остается лишь добавить, что в интерьере относительно небольшой части землянок Нижнего Побужья зафиксировано своеобразное устройство в виде так называемого столика (см.: Марченко, Доманский. 1981).
Какие же в данном случае опять-таки могут быть сделаны выводы из перечисленных выше фактов? Прежде всего, по-видимому, нам следует обратить внимание не на собственно греческое, а, несомненно, конкретно причерноморское происхождение основного типа построек, функционировавших в сельских районах Северо-Западного Причерноморья в течение всего архаического времени. Значит ли это, однако, что речь и в этом случае также должна идти не только о культурном, но и этническом проникновении варварского элемента в структуру населения этих районов? В первом приближении, разумеется, нет. На возможность прямого заимствования идеи простого заглубленного в землю жилища туземцев греческими колонистами в современной историографии указывалось уже не раз (см. выше). При этом, как известно, в пользу именно такого хода событий можно привести внешне достаточно убедительные факты, а именно: наличие ограниченного набора разновидностей построек в окрестностях греческих центров, сходных с варварскими жилищами хинтерланда, массовое строительство таких же построек на территории самих эллинских апойкий в архаическое время, относительно невысокий уровень развития экономических возможностей ионийцев на начальной фазе заселения сельской территории и, наконец, отмеченное выше своеобразие внутреннего убранства части землянок в виде «столиков». И это, пожалуй, все, если, конечно, не считать того факта, что обычно на поселениях контактных зон в грунтовых сооружениях находят огромное количество разного рода изделий греческих керамистов.
Безусловно, сбрасывать полностью такого рода наблюдения со счетов просто невозможно. Тем более, что нам достоверно известно о длительном использовании типично туземных построек греческими торговцами в системе собственно варварских поселений глубинных районов Северного Причерноморья даже в более позднёе время — в IV в. до н. э. — на Елизаветов-
90
ском городище (Брашинский, Марченко. 1978. С. 207-214; Житников, Марченко. 1984. С. 167-168; Марченко, Житников, Копылов. 2000. С. 92 сл.). Однако и в данном случае следует обратить внимание опять-таки на необходимость сбалансированного подхода к конкретным материалам бытовой сферы культуры с учетом теоретического аспекта вопроса.
В этом смысле приходится признать, что сам по себе факт присутствия в культурных слоях и комплексах сельских поселений приморских районов Северо-Западного Причерноморья большого количества относительно высококачественной продукции греческого производства, причем продукции, рассчитанной по большей части на рынок, сам по себе также не может быть расценен как признак непременного физического присутствия самих эллинов, поскольку даже априорно необходимо допускать наличие в этой зоне мощной хозяйственной и культурной радиации со стороны греческих колоний. Не менее важными для понимания существа дела оказываются и отмеченные выше особенности и различия земляночных структур на отдельных памятниках окрестностей этих колоний, ибо они в принципе не могут приемлемо быть объяснены только сквозь призму гомогенной культуры эллинов, даже если при этом вводить поправку на возможные несовпадения функций конкретных комплексов. Особенно примечательным в данном случае, однако, оказывается возможность более или менее жесткой корреляции сразу двух различных элементов традиционной культуры. На поверку оказывается, что на отдельных поселениях с одинаковой разновидностью построек в архаическое время бытовал и вполне ограниченный набор морфологических типов варварской лепной керамики, генетически связанной с одной из локальных историко-культурных областей Северо-Западного Причерноморья (Марченко К. К. 1985а. С. 51). Заметим также, что от констатации этого обстоятельства до признания значительной культурной, а быть может, и этнической однородности хотя бы и части насельников таких памятников остается сделать один шаг. Соответственно, один шаг остается сделать и до признания существования в сельских районах какого-либо вида этносоциальной организации туземной части жителей этих же поселений, поскольку в противном случае нам было бы весьма затруднительно объяснять крайнюю устойчивость во времени анализируемого элемента чисто варварской культуры в условиях массированного воздействия на него со стороны несомненно более развитой и мобильной традиции эллинов.
Эти и подобные им соображения закономерно приводят нас к выводу о возможности использования землянок в контактных зонах Северо-Западного Причерноморья как греческими колонистами, так и самими аборигенами. Учитывая же высокий удельный вес туземного компонента в составе жителей сельских районов колонизации, с одной стороны, и довольно-таки растянутый во времени да и, кстати сказать, далеко не повсеместный пере
91
ход к строительству наземных сырцово-каменных построек типично эллинского облика, с другой, можно предположить далее, что именно варвары прежде всего и являлись основными, хотя, еще раз подчеркиваем, далеко не единственными строителями и обитателями такого рода построек в «пограничье». Фиксируемые в таком случае отличия в наборе типов и внутреннем устройстве отдельных строительных комплексов контактных зон в сравнении с жилыми и хозяйственными сооружениями варварского хинтерланда должны быть объяснены как относительной бедностью спектра этнических компонентов, участвовавших в создании материальной культуры сельских районов греческой колонизации северо-западной части Понта, так, вполне вероятно, и определенной трансформацией традиции местных жителей под воздействием более сильной культуры ионийцев.
В заключение заметим также, что одним из наиболее показательных, на наш взгляд, примеров эффективности такого воздействия демонстрирует нам погребальный обряд аграрного населения Нижнего Побужья и приморской полосы Северной Добруджи позднеархаического времени (Ebert. 1913. S. 5 ff.; Bucovala, Irimia. 1971; Липавский, Снытко. 1990; Липавский. 1990. С. 20-23), в системе которого отдельные черты различных традиций оказались настолько причудливо перемешанными друг с другом, что современные комментаторы с почти одинаковым успехом относят его создание то на счет собственно греческой культуры с некоторой, но вполне очевидной примесью туземного влияния (Лапин. 1966. С. 171-172), то к типично варварской с заметными эллинскими дополнениями (см., например: Тереножкин, Ильинская. 1983. С. 198-199; Мурзин. 1984. С. 43-44), то, наконец, — и это в свете всего вышесказанного, пожалуй, наиболее вероятно, — гетерогенному населению (Irimia. 1976; 1983).
Перейдем, наконец, к завершающему этапу нашего анализа. Теперь, когда в только что рассмотренной концепции В. В. Лапина и его сторонников выделены и критически осмыслены наиболее важные для нашей темы положения, когда так или иначе удалось доказать факт присутствия значительного числа разноэтничных туземцев в составе сельского населения основных районов колонизации Северо-Западного Причерноморья, нам остается сделать последнее, а именно: дать свою версию характера и путей формирования этого населения. Прежде, однако, необходимо со всей определенностью отметить, что за скобками дальнейшего рассмотрения вполне сознательно будет оставлен политический аспект отношений обитателей аграрных селищ с колониями. Совершенно очевидно, что сам факт присутствия изделий греческих ремесленников в культурных слоях и комплексах конкретного памятника такого рода, несмотря на качественное разнообразие, может служить лишь дополнительным, но отнюдь не решающим аргументом при выяснении наличия или отсутствия какой-то формы политической
92
зависимости данного поселения от греческого полиса, а тем более — размеров территориальных владений гражданского коллектива последнего (ΧΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ). Только почти невероятная сама по себе находка разъясняющего эпиграфического документа способна дать однозначный ответ на эти вопросы.
Итак, в настоящее время наша версия в общих чертах рисуется в следующем виде. Анализ всей совокупности имеющейся на сей счет информации свидетельствует, что формирование сельского населения в приморских районах северо-западной части Понта являлось процессом, охватившим отрезок времени более чем в одно столетие — от момента выведения сюда Истрии и Борисфена в середине VII в. до н. э. до возникновения основной массы рядовых поселений в последней трети следующего столетия. Существенно подчеркнуть далее, что в самом развитии этого процесса можно выделить по крайней мере два качественно различных хронологических этапа.
Первый и наиболее ранний из них, продолжавшийся вплоть до середины VI в. до н. э., характеризуется крайне медленным развитием оседлой жизнедеятельности за пределами территории греческих апойкий района. Есть веские основания полагать даже, что самые древние ионийские поселения — Истрия и Борисфен — в течение жизни двух первых поколений были практически единственными стационарными пунктами Северо-Западного Причерноморья. Лишь со второй четверти VI в. до н. э. сначала в Северной Добрудже, а затем и в районе Нижнего Побужья появляются реальные признаки зарождения населения в зонах «пограничья».
Оставляя теперь за рамками рассмотрения причины столь странного «равнодушия» эллинов к непосредственному освоению природных ресурсов периферии (об этом было достаточно сказано выше), напомним, что в его основе лежала прежде всего торгово-сырьевая по преимуществу ориентация экономики первых греческих апойкий. Нелишне напомнить также и то, что среди наиболее ранних сельских поселений Северной Добруджи и Нижнего Побужья в настоящее время с наибольшей достоверностью выделяются как раз те (пп.Тариверде и Ягорлыцкое), которые имели, по всей видимости, торговую или торгово-ремесленную направленность своего хозяйства (Preda. 1972; 1985; Островерхов. 1978а).
Описанное положение дел в Северо-Западном Причерноморье стало меняться только с наступлением следующего, второго, этапа развития колонизационного движения в этом районе. Появление в середине — второй половине VI в. до н. э. новых переселенцев из Ионии радикальным образом изменило ориентацию экономики местной эллинской общины в целом. Отныне здесь начинается самый решительный поворот к прямой эксплуатации ресурсов района. Целенаправленная политическая, экономическая и культурная деятельность греческих апойкий, кровно заинтересованных в эф-
93
фективном освоении близрасположенных территорий для получения необходимой для собственного развития продукции земледелия, создала важнейшие предпосылки для ускоренного формирования стационарного сельского населения.
Вместе с тем нельзя не заметить, что резкое увеличение численности аграрных поселений в Нижнем Побужье и Северной Добрудже и появление их в Поднестровье являлось по своей сути составной частью наивысшего расцвета оседлой жизнедеятельности в глубинных областях Северного Причерноморья позднеархаического времени. Нельзя не видеть, что именно в середине VI в. до н. э. на большей части приморских территорий Северо-Западного Понта складываются наиболее благоприятные условия для греческой колонизации. Как представляется ныне, новому витку освоения пространства в немалой степени способствовало сочетание сразу нескольких факторов местной среды обитания, в том числе: отсутствие в степном коридоре региона сколь-либо заметного туземного оседлого и кочевого населения, относительное замирение скотводческо-земледельческих племен лесостепной зоны, полукочевая верхушка которых к этому времени уже во многом утратила свою былую агрессивность, и, наконец, явно положительное для обеих сторон — и греков, и варваров — сальдо более чем полувекового опыта знакомства, подготовившего почву для стабильного развития взаимовыгодных экономических контактов в дальнейшем.
Нет никаких сомнений также и в том, что сам процесс формирования относительно стабильного сельского населения в прибрежных зонах Северо-Западного Причерноморья протекал в рамках теснейшего взаимодействия сразу двух различных социально-экономических систем — греческих полисов района, с одной стороны, и потестарных общественных образований варваров хинтерланда, с другой. Политическим, хозяйственным и культурных преимуществом в этих отношениях обладали колонисты, что в конечном счете наложило неизгладимый отпечаток на внешний облик материальной и духовной сфер культуры аграрных территорий, придав им ни с чем не сравнимое своеобразие. Они же в первую очередь были заинтересованы и в привлечении в свои безлюдные окрестности замледельцев из числа жителей лесостепной полосы Северного Понта.
Впрочем, формы вовлечения аборигенов в хозяйственную орбиту колоний по большей части фактически остаются неизвестными. В принципе можно допустить довольно широкий спектр действий — от какого-то рода договоренности с варварами, включающей в себя обещание и предоставление конкретных экономических выгод отдельным общинам, до покупки военнопленных у туземной знати и даже внеэкономического захвата людей с последующим превращением их в полусвободных или рабов. Логично предполагать далее, что до известной степени «стихийный» подбор кандидатов
94
на переселение имел сразу несколько взаимосвязанных следствий. Как представляется, он вел к образованию в окрестностях апойкий довольно пестрого, гетерогенного по своему этнокультурному составу населения; он же являлся непреодолимым препятствием на пути возникновения здесь сколь-либо крупных общественно-политических организаций варваров, способных противостоять влиянию греческих полисов; и он же закономерно создавал наиболее благоприятные предпосылки для быстрейшей эллинизации переселенцев. В этих условиях, наконец, должна была идти и частичная метисизация аборигенов.
Вместе с тем, продолжая разговор о гетерогенности состава сельского населения в отдельных районах греческой колонизации Северо-Западного Причерноморья, нельзя не отметить и наличие в его туземной части весьма существенных различий, естественным образом проистекавших из различий этнокультурного спектра ближайшего варварского окружения отдельных колоний. Есть все основания полагать в данной связи, что основным компонентом этой категории обитателей хоры Истрии и Том являлись гетофракийцы с некоторой, но явно сравнительно небольшой по численности примесью северо-восточного, условно назовем, скифского элемента. Несколько иначе в этом же смысле выглядела номенклатура варваров округи Никония и Тиры, где, судя по всему, наибольший удельный вес принадлежал выходцам из Среднего Поднестровья и отчасти Побужья, но, однако ж, с вполне вероятным дополнением фракийцев из более южных районов Карпато-Дунайского бассейна (ср. Охотников. 1990. С. 59). И уж совсем иная картина зафиксирована ныне для Нижнего Побужья, доминировавшей частью туземных жителей которого в позднеархаическое время, по-видимому, оказались так называемые скифы-пахари, т. е. представители населения лесостепной зоны Днепровского Правобережья (Марченко Κ. К. 1988а. С. 115-118).
Между тем все вышесказанное отнюдь не утверждает абсоютный примат греческих полисов в деле формирования своего аграрного окружения. Напротив, у нас есть некоторые свидетельства в пользу отсутствия в позднеархаическое время всеохватывающего контроля со стороны эллинских государств над действиями своих партнеров. Последние явно обладали значительной степенью самостоятельности в своих поступках. Во всяком случае в передвижении туземцев и в выборе ими конкретных мест под заселение проглядываются признаки спонтанности. Впрочем, наиболее очевидным из них оказывается все же факт непрерывности связи варварской части населения районов колонизации Северо-Западного Причерноморья с обитателями лесостепной зоны этого региона, четко фиксируемый на традиционно-бытовом уровне материальной культуры — параллельности развития и изменения форм и орнаментации лепной керамики. Равным образом, еле-
95
дует предполагать, что сами по себе элементы спонтанности в действиях аборигенов также способствовали диверсификации этнокультурного облика жителей сельских районов Истрии, Борисфена, Ольвии и Никония. В этой связи достаточно вспомнить, к примеру, практически полное отсутствие следов пребывания гето-фракийцев на левобережных поселениях Днепро-Бугского лимана, явно входивших в зону прямых экономических и политических интересов греческой общины Нижнего Побужья, и наличие этих же следов на большей части памятников позднеархаического времени правого берега (Марченко К. К. 1988а. С. 114; Виноградов, Марченко, Рогов. 1989. С. 17). Таким образом, следует думать, что присутствие в этом районе крупного водного рубежа стало непреодолимым препятствием на пути расселения на восток выходцев из Карпато-Дунайского бассейна.
Не менее примечательным с этой же точки зрения оказывается и недавнее открытие довольно большого (около 2,5 га) поселения Куцуруб I с преимущественно фракийским обликом бытовой и отчасти религиозной сфер культуры, демонстрирующей прямо-таки удивительную способность к стагнации в условиях непосредственного и, несомненно, мощного воздействия на нее со стороны значительно более развитой и динамичной культуры ионийцев (Марченко, Доманский. 19836; 1991; Марченко К. К. 1985а).
В пользу некоторой самостоятельности, независимости от греческой этнокультурной и экономической экспансии в Нижнем Побужье процесса внедрения сюда гето-фракийцев может, наконец, свидетельствовать и то обстоятельство, что вместе с полным исчезновением фракийского элемента в материальной культуре этого района, происшедшим где-то в первой четверти V в. до н. э. (Марченко Κ. К. 1974), отнюдь не прекращаются, а скорее даже усиливаются торговые, культурные и политические контакты и взаимодействия Ольвийского полиса с эллинскими городами Левого Понта и особенно Истрией, теснейшим образом связанной с жителями Карпато-Дунайского бассейна.
Последнее, на чем необходимо остановить внимание в связи с излагаемой версией формирования сельского населения в приморских районах северо-западной части Понта — на его количественной оценке в период максимального расцвета оседлой жизнедеятельности. Сразу же заметим, что в современной историографии до недавнего времени на сей счет господствовало определение В. В. Лапина, совершенного убежденного в том, что речь должна идти о «массовом» заселении берегов Черного моря (Лапин. 1975. С. 102; см. также: Крижицький, Буйських. 1988. С. 6).
Пытаясь раскрыть содержание этого термина применительно к одному из районов «массовой миграции» крестьян из Ионии, сторонники преимущественно эллинской принадлежности аграрных селищ позднеархаического времени пришли к заключению, согласно которому «суммарный потен
96
циал античного населения, переместившегося в Нижнее Побужье периода греческой колонизации, составляет от 10 000-12 000 до 12 000-16 000 человек» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 36).
Основой столь впечатляющих цифр, судя по всему, стали подсчеты числа обитателей все тех же «агломераций» Нижнего Побужья. Как полагают исследователи, на территории таких больших поселений одновременно могло проживать по 1000-1800 и даже более человек (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 36). При этом ход рассуждения специалистов на первый взгляд просто безупречен: поскольку на 1 га площади «агломерации» приходится примерно по 2,2 домохозяйства с 4-6 полуземлянками в каждом (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 32-33), а одна полуземлянка в среднем могла вмещать 2-3 жителя, то в результате довольно-таки нехитрых арифметических действий возникает вполне определенное выражение массовости стихийной линии колонизации.
Нужно заметить, однако, что при всей кажущейся логичности и достоверности данного построения с таким прямым решением весьма деликатной задачи на демографическую тему согласиться все-таки невозможно. Оно явно не принимает в расчет целый ряд весьма вероятных искажений в исходных данных. Назовем лишь наиболее очевидные из них. Это, во-первых, отсутствие надежных гарантий единообразия застройки жилых кустов «агломераций», проистекающие из самого факта недостаточной степени изученности этого типа поселений, и, во-вторых, невозможность отнесения решительно всех строительных комплексов отдельных домохозяйств к категории жилищ.1 Большие сомнения, наконец, вызывает и четко улавливаемая тенденция исследователей рассматривать все сооружения усадеб да и сами усадьбы как практически одновременные памятники. Нетрудно заметить, таким образом, что все эти и подобные этим соображения (см. также: Отрешко. 1990б) ведут к необходимости пересмотра предложенной ими оценки количества сельского населения в районе в сторону его решительного уменьшения и заставляют понимать под массовостью заселения окрестностей Ольвии и Борисфена нечто гораздо более скромное — несколько сотен или в лучшем случае 1-2 тысячи переселенцев, весьма заметную часть которых к тому же составляли выходцы из глубинных районов Северного Причерноморья. Равным образом, совершенно очевидно и то, что масштабы «массового» заселения сельских территорий Северной Добруджи и Нижнего Поднестровья позднеархаического времени были, по всей видимости, еще менее значительны.
1 При всей трудности определения функций конкретных полуземлянок следует априорно предполагать все же, что такого рода постройки на аграрных селищах составляли абсолютное меньшинство.
97
2.3. Каллипиды — эллино-скифы
Важнейшим составным элементом этнокультурной интерпретации сельского населения окрестностей греческих апойкий северо-западной части Понта является критическое осмысление под углом зрения данных археологии известного сообщения Геродота о каллипидах — эллино-скифах (Herod. IV, 17). При этом, как известно, в современной историографии существует сразу две концепции каллипидов, одна из которых связывает с их жизнедеятельностью аграрные селища Нижнего Побужья и даже Нижнего Поднестровья (см., например: Охотников. 1990. С. 59), а другая трактует их как полукочевое племя скифов, обитавшее за пределами зоны постоянных сельских поселений позднеархаического времени (Русяева, Скржинская. 1979; Отрешко. 1981; Мелюкова. 1988. С. 18). Детальная ревизия имеющихся на сегодняшний день в науке комментариев этого сообщения (см.: Марченко К. К. 1983а) позволяет сделать вывод, согласно которому в настоящее время наиболее непротиворечиво и в видимом соответствии с материалами археологии этот «этнос» Геродота объясняет гипотеза, представляющая каллипидов в виде особого населения Нижнего Побужья, возникшего в результате смешения эллинов со скифами или, как вариант, просто от смешения представителей различных варварских племен Причерноморья, втянутых по тем или иным причинам в культурную и экономическую орбиты местной греческой общины.
Весьма существенным обстоятельством, на которое следует обратить внимание, является необходимость признания наличия рода социальной зависимости такой группы туземных жителей от эллинов, так как трудно, да и невозможно себе представить для столь раннего времени иной формы отношений автократичной сословной общины ионийцев и искусственно возникшей гетерогенной прослойки варваров, призванной, по всей видимости, в конечном счете содействовать снабжению этой общины необходимыми для ее нормального воспроизводства продуктами земледелия и скотоводства.
3.1. Греки и варвары Северо-Западного Причерноморья скифской эпохи второй четверти V — первой трети III в. до н. э. Характер грековарварских взаимодействий в V в. до н. э.
Как уже упоминалось выше (см. главу II), естественный ход развития эллинских государств и аграрного населения Северо-Западного Причерноморья в целом продолжался весьма недолго. Археологические изыскания последних десятилетий рисуют нам вполне отчетливую картину запустения
98
сельских территорий Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья с рубежа первой и второй четверти V в. до н. э. Как установлено ныне, в это время прекращается жизнь на подавляющем большинстве рядовых селищ позднеархаического периода названных районов греческой колонизации. Равным образом есть некоторые основания полагать, что весьма близкая, если даже не тождественная, ситуация складывается тогда же и в окрестностях Истрии, где, судя по всему, также прерывают свое существование сельские поселения Северной Добруджи, например, Тариверде (Condurachi si col. 1953; Vulpe. 1955. P. 543-549; Avram. 1990. S. 23), Саринасуф (Alexandrescu. 1976. P. 122, 126). Истрия Под (Zimmerman, Avram. 1987. S. 10-11, 27) и происходит заметная редукция или даже хронологический разрыв жизнедеятельности на территории так называемого «цивильного поселка» этой колонии (Dmitriu. 1966; ср. Zimmerman, Avram. 1987. S. 27).
Следует подчеркнуть сразу, что причины, повлекшие за собой указанное явление, все еще дискутируются. Одни исследователи объясняют уход жителей с незащищенных поселений резким обострением военно-политической ситуации в Северном Причерноморье, вызванным усилением кочевых скифов (см., например: Марченко К. К. 1980. С. 143; Виноградов Ю. Г. 19806. С. 107; Карышковский, Клейман. 1985. С. 44; Охотников. 1990. С. 69-70; Alexandrescu. 1990. S. 68). Другие, не отрицая полностью возникновения угрозы со стороны скифов, указывают на возможность существования, что касается Нижнего Побужья во всяком случае, еще по меньшей мере двух, в их построениях едва ли не главных причин этих событий, а именно: большой потребности самой Ольвии в притоке рабочей силы для сооружения оборонительных стен вокруг города и развертывания интенсивного строительства сырцово-каменных общественных и жилых сооружений (Русяева. 1979. С. 107; Русяева, Скржинская. 1979. С. 27-28) или же переходом от стихийно сложившейся сельской территории к менее обширной, но зато и более упорядоченной хоре полиса (Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 15; Отрешко. 1990а. С. 15). Третьи исследователи связывают фиксируемый отлив сельского населения то с синойкизмом отдельных общин ионийцев Нижнего Побужья, приведшим, по их мнению, к образованию Ольвии как города (Рубан. 1977. С. 43-44), то с реэмиграцией ионийцев «на свою обезлюдевшую родину после обретения ею независимости вследствие поражения персидской армии при Эвримедонте и особенно после Каллиева мира» (Рубан. 1988. С. 18).
Каковы же истинные причины, вызвавшие относительное запустение сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Какую из ныне существующих на сей счет точек зрения предпочесть?
Сразу же заметим, что по поводу одной из них — о синойкизме аграрных поселений — в печати уже высказана отрицательная оценка, указывающая на явную уязвимость ее конкретно-исторического обоснования (Марчен
99
ко К. К. 1980. С. 142; Виноградов Ю. Г. 19806. С. 107). Не менее сомнительным, впрочем, представляется и другое решение вопроса, связывающее запустение окрестностей колоний с массовой реэмиграцией, поскольку оно исходит из исключительно ионийского характера аграрного населения. Практически столь же малоприемлемым, наконец, кажется и суждение о сокращении (коллапсе) сельской территории в связи с организацией Ольвийским полисом своей хоры. Как мы видели выше, находящийся на его основе тезис о стихийной линии колонизации вызывает серьезные возражения.
Значительно более убедительными на первый взгляд представляются две оставшиеся, частично связанные между собой точки зрения — о потребности Ольвии в рабочей силе по причине возросшего объема строительства и о военной угрозе со стороны кочевников. Рассмотрим их.
Итак, нет сомнений в том, что переход ольвиополитов от землянок и полуземлянок к массовому строительству наземных сырцово-каменных построек произошел где-то в конце VI — начале V в. до н. э. Во временном отношении этот решительный переворот в строительном деле одновременен или чуть опережает начало отлива с периферии в город. Примерно в это же время Ольвия, возможно, опоясывается каменными оборонительными стенами (см.: Карасев. 1948). Таким образом, хронологическая и причинная связь появления в Ольвии большого числа рабочей силы и переход к широкому строительству наземных сооружений эллинских типов кажутся вполне естественными (Крижицький, Русяева. 1978. С. 24). Совсем иное дело, однако, когда само стремление строить в городе более совершенные, требовавшие больших затрат труда здания жилого и общественного назначения трактуется как один из важнейших стимулов, побудивших жителей Нижнего Побужья позднеархаического периода покидать сельскохозяйственные угодья — основной, если не единственный, источник благосостояния большинства вчерашних колонистов. С такой постановкой вопроса согласиться трудно даже в первом приближении.
При рассмотрении причин новых веяний в строительном деле ольвиополитов совершенно необходимо, во-первых, расчленить два почти полностью различных по своей направленности и значению события — переход к широкому строительству сырцово-каменных сооружений в городе и начало возведения мощных городских укреплений, и, во-вторых, принять во внимание, что сам-το переход к наземным типам построек в Нижнем Побужье начался значительно раньше запустения берегов лиманов и был, несомненно, подготовлен всем ходом колонизации этого района — сравнительно быстрым расширением и укреплением экономической и культурной базы эллинской общины в середине — второй половине VI в. в целом.
Сделанные замечания, разумеется, не означают, что нужно полностью отрицать влияние возможных излишков рабочей силы на увеличение мае-
100
штабов городского строительства в первой половине V в. Вовсе нет. Этим хочется только поставить указанный фактор на подобающее ему второстепенное место. И если одной из действительных причин перехода к массовому строительству сырцово-каменных домов в какой-то мере и мог оказаться наплыв большого числа новых жителей в город, то быстрое возведение фортификационных линий Ольвии — предприятие, потребовавшее, конечно же, поистине огромных усилий и полного напряжения хозяйственных и физических возможностей полиса, должно было быть вызвано к жизни, разумеется, куда более масштабной и одновременно прозаической силой — опасностью военного нападения. Осуществилось ли хоть раз такое нападение в это время или нет — в данном случае совершенно неважно. Суть в другом — в ее очевидной реальности (Карасев. 1948. С. 28-29).
Именно эта опасность, по всей видимости, и привела в запустение большую часть обжитых, но совершенно не укрепленных поселений Нижнего Побужья, Поднестровья и, скорее всего, Северной Добруджи. Налицо явная вынужденность отказа греков от прямой эксплуатации сельскохозяйственного потенциала Северо-Западного Понта. Ко всему вышесказанному остается лишь добавить, что единственной реальной силой, способной практически одновременно обострить военно-политическую обстановку на столь обширной территории, могли быть только новые волны появившихся с востока номадов.
Помимо вполне резонной в данном случае теоретической посылки о коренном отличии хозяйственно-культурного типа кочевников от оседлого земледельческого населения окрестностей колоний, естественным образом создававшего состояние перманентного конфликта между ними, сторонники последней точки зрения исходят из достаточно надежных справок античной литературной традиции (Herod., IV,76,78-80) и, как будто, эпиграфики (см.: Vinogradov. 1981. S. 14, 17; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 87-89), свидетельствующих о реальности враждебных отношений степняков к грекам по крайней мере в конце VI — первой половине V в.
В подкрепление указанного тезиса обычно привлекаются и некоторые характерные факты археологии интересующего нас времени. При этом заметим, однако, что при окончательной оценке этих фактов необходимо считаться с тем более или менее очевидным обстоятельством, что военные столкновения далеко не всегда находят адекватное отражение в археологических материалах. Как бы то ни было, перечислим их. Это, во-первых, перерыв с первой трети V в. до конца этого же столетия в функционировании сельских некрополей Нижнего Побужья и хронологически связанная с этим перерывом трансформация погребальных сооружений — переход от четырехугольных ям с деревянными конструкциями к ямам с подбоем и катакомбам (см.: Ebert. 1913); во-вторых, появление во второй четверти V в.
101
на территории Нижнего Побужья целой серии погребений кочевых скифов (Ковпаненко, Бунятян. 1978; Гребенников, Фридман. 1985); в-третьих, наличие в Ольвийском и особенно Березанском некрополях конца VI — первой половины V в. заметного количества погребений, содержащих людей, убитых скифским оружием, — явление, бесспорно, необычное для комплексов более раннего периода (см.: Скуднова. 1960. С. 68; Доманский, Виноградов, Соловьев. 1989а. С. 59-60); в-четвертых, открытие на нижнебугском поселении Большая Черноморка 2 в одном из комплексов первой четверти V в. скелета насильственно умерщвленного жителя (Ганжа, Мошкова, Отрешко. 1978); в-пятых, создание в самом конце VI или начале V в. на другом открытом селище ольвийской округи Старая Богдановка 2 — большого наземного сооружения с необычно мощными внешними стенами, возможно, выполнявшего функцию убежища для местного населения (Марченко, Доманский. 1982); в-шестых, исчезновение из состава лепной керамики Нижнего Побужья с начала V в. фракийского и лесостепного компонентов, что наиболее резонно объяснять перекрытием номадами традиционных путей пополнения сельского населения этого района (Марченко К. К. 1988а. С. 121 -123), и, наконец, в-седьмых, так называемое первое разрушение Истрии в начале этого же столетия (Alexandrescu. 1990. S. 67-68).
Последнее, на что, быть может, следует обратить внимание в связи с рассматриваемой точкой зрения, — заметное пополнение антропонимического фонда Ольвии негреческими и полугреческими именами, происшедшее вследствие концентрации на ее территории окрестного населения (Виноградов Ю. Г. 19816. С. 134-135), а также значительная редукция площади Борисфена (Копейкина. 1975. С. 193 сл.; Solovjov. 1999. Р. 99 ff.).
Подводя, таким образом, итог нашему краткому обзору существующих представлений на события начала V в., мы, как кажется, имеем достаточно веские основания присоединиться к мнению исследователей, связывающих относительное запустение прибрежных районов северо-западной части Понта с действиями кочевников. Впрочем, в настоящем разделе нет нужды специально останавливаться на рассмотрении причин резкого усиления агрессивности северопонтийских номадов в указанное время: об этом было достаточно сказано выше (см. главу II). Существенно отметить, пожалуй, иное. Как представляется ныне, появление новых волн скифов с востока, дестабилизировав ситуацию в целом и вызвав коллапс сельскохозяйственной территории в окрестностях апойкий Северо-Западного Причерноморья, против ожидания не повлекло за собой сколь-либо глубокого ухудшения экономического положения местных греков. Напротив, есть некоторые основания полагать, что по крайней мере Истрия, Никоний и особенно Ольвия ничуть не замедлили своего дальнейшего развития. Они отнюдь не производят впечатления постоянно осаждаемых варварами городов, собиравших послед
102
ние силы для отражения агрессии и терпевших нужду в предметах первой необходимости. Более того, в V в. до н. э. на их территории наблюдается явный расцвет строительной и хозяйственной деятельности (см., например: Леви. 1984. С. 36; Крыжицкий. 1985.С.63;Секерская. 1989. С. 49; Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко. 1989. С. 94). Не отвергая в целом попытку объяснить столь удивительное на первый взгляд развитие событий решительной переориентацией экономики той же Ольвии на коммерческие рельсы (см., например: Лейпунская. 1979. С. 129; Русяева, Скржинская. 1979. С. 28; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 107-108), нельзя не предположить одновременно, что одна только торговля могла, по всей видимости, лишь отчасти компенсировать эллинам их утрату сельскохозяйственной продукции с заброшенных территорий. Нельзя забывать также, что в период общей дестабилизации обстановки в Северном Причерноморье объем торговых операций греческих купцов с земледельцами лесостепной зоны вряд ли мог быть особенно большим. Не случайно поэтому исследователи фиксируют заметный спад интенсивности экономических контактов ионийцев с хинтерландом этого региона в середине — второй половине V в. до н. э. (Онайко. 1960. С. 37; 1966. С. 11,41-42,52,82-83).
Практически столь же сомнительным представляется ныне возможность решения этой загадки и за счет признания факта относительности запустения сельских территорий греческих колоний. Впрочем, археологические изыскания последних лет обнаружили немало разрозненных следов существования какой-то жизни на ряде бывших поселений окрестностей Ольвии позднеархаического времени и в середине — второй половине V в. Более того, в настоящее время нельзя исключать также и того, что отдельные аграрные селища северо-западной части Понта продолжали функционировать без сколь-либо значительных археологически улавливаемых перерывов даже в наиболее экстремальных условиях (см., например: Avram. 1990. S. 22; Русяева, Мазарати. 1986. С. 52; Отрешко. 1975. С. 130). Таким образом, следует предполагать априорно, что сельскохозяйственная продукция могла поступать в эллинские города извне и по завершении процесса редукции оседлой жизнедеятельности в Северо-Западном Причерноморье. Все дело, однако, состоит в том, что даже при самых оптимистических расчетах действительный объем этой продукции явно не мог идти ни в какое сравнение с произведенным на сельских поселениях более раннего периода, т. е. во время их наивысшего расцвета. Так, допустимо думать, что и указанное выше обстоятельство не было в состоянии обеспечить грекам не только дальнейшее повышение их стандарта жизни, но даже поддержать его на прежнем, более чем скромном уровне. Как представляется, таким образом, единственным реальным выходом из крайне затруднительного положения, возникшего в результате запустения приморских территорий Северо-Западного
103
Понта, могло стать только создание собственной базы производства необходимых продуктов земледелия под защитой крепостных стен колоний.
Итак, мы вновь возвращаемся к уже ранее отмеченной и, казалось бы, напрочь отброшенной нами идеи появления в ближайших окрестностях греческих центров V в. относительно небольшой, но хорошо организованной хоры. Нетрудно заметить, однако, что на сей разданная идея основывается на совершенно иных посылках. Она исходит из примата не внутри-, а внешнеполитических факторов, приведших к так называемому коллапсу аграрных поселений, и к тому же явно не нуждается в опоре на платформу «стихийности» характера колонизации этого района (ср. Крыжицкий, Отрешко. 1986. С. 15). И это, разумеется, принципиально важно.
Какие же, однако, имеются конкретные доказательства наличия в V в. сколь-либо обширных обрабатываемых угодий у ионийских городов Северо-Западного Причерноморья?
К сожалению, их крайне немного, и заметим, в отсутствии надежных хронологических привязок так или иначе выявленных древних следов размежевки окрестностей Истрии, Никония, Ольвии, все они косвенные. Исключение, пожалуй, до некоторой степени составляет ольвийский декрет третьей четверти V в., изданный в честь двух синопейцев — тирана Тимесилая и его брата Теопропа, дарующий им в числе привилегий и право на приобретение земли, что, по мнению издателей этой псефизмы, «в условиях крайней редукции ольвийской хоры обеспечивало политическим изгнанникам из Синопы гарантию занятости в той же, что и прежде, сфере хозяйственной деятельности» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 109-111). Как бы то ни было, но исследователи в этой связи обычно обращают внимание на два факта археологии Нижнего Побужья интересующего нас времени, а именно: появление на территории Ольвии в V в. большого количества зерновых ям, что, по их мнению, «свидетельствует о том, что население самого города, помимо ремесел, было вынуждено достаточно активно заниматься сельским хозяйством, очевидно, в связи с ликвидацией широкой хоры» (Крыжицкий. 1979. С. 14; см. также: Лейпунская. 1986. С. 44), и возникновение ольвийского предградия, население которого будто бы было призвано играть значительную роль в обработке ближайших к городу земель (Русяева, Скржинская. 1979. С. 28).
Вместе с тем следует признать, что даже этот более чем скромный перечень доводов в пользу существования интенсивно используемых сельскохозяйственных угодий в окрестностях Ольвии должен быть изначально, по всей видимости, сокращен. Нельзя не заметить, что сам по себе факт наличия значительного количеств зерновых ям на территории названной колонии еще не дает права для утверждения особой активности ее гражданского населения в непосредственном производстве хлеба и других видов продук
104
тов питания для собственных нужд и на экспорт, поскольку товарный хлеб в принципе мог поступать в места хранения и в результате удачных коммерческих сделок ольвийских купцов, заключенных с варварами хинтерланда. Другое дело — энергичное участие в сельскохозяйственных работах жителей предградия. Имеющаяся на сей счет детальная ревизия материалов этого памятника (см.: Марченко К. К. 1982) позволяет ныне высказать следующие более или менее вероятные суждения, всячески подчеркивая их гипотетичность.
1. Внешнее сходство предградья с обликом позднеархаических сельскохозяйственных поселений Нижнего Побужья, с одной стороны, и совпадение во времени начала запустения «широкой» хоры Ольвии с развитием жизни на западном склоне Заячьей балки, т. е. на территории интересующего нас в данный момент памятника, с другой, дает некоторые основания полагать, что какая-то часть покинувших берега лимана жителей не осела в черте города, а поселилась у его стен.
2. Наличие в пределах естественных границ Ольвии V в. весьма значительных свободных, годных под жилую застройку площадей делает выбор места этого поселения вполне сознательным.
3. Относительные неудобства стационарной жизни на территории предградья, связанные с отсутствием легкодоступных источников питьевой воды, относительной удаленности от центра общественной, хозяйственной и религиозной жизни, но главное, с отсутствием искусственных и естественных рубежей обороны в условиях существования потенциальной опасности военного нападения кочевников, ставило его жителей в несколько более сложное, худшее по сравнению с самими ольвиополитами положение. Такое же впечатление неравных условий и возможностей возникает и при сопоставлении относительно более скромного, архаичного, правильнее сказать, примитивного быта обитателей предградья с жизнью в самом городе.
4. Отсутствие видимых серьезных причин продолжительной жизни полноправных граждан на территории предградья в сфере его экономики, отсутствие заметных попыток Ольвийского полиса на протяжении всего V и начала IV в. до н. э. хоть как-то изменить, улучшить условия существования жителей этого поселения приводит к мысли, что в основе констатируемого бытового неравенства могло лежать неравенство социальное, в том числе связанное и с этническим происхождением. Иными словами, создается впечатление, что район к западу от Ольвии в V в. до н. э. мог быть заселен группой (категорией) лиц, находившихся на сравнительно низкой ступени социальной лестницы античного общества Нижнего Побужья позднеархаического-раннеклассического периодов.
105
5. Поскольку, однако, эта социальная группа (категория) людей пришла сюда, под стены Ольвии, скорее всего из сельскохозяйственных селищ Нижнего Побужья, где достаточно четко нами были прослежены следы присутствия гетерогенного варварского элемента, будет логично предположить в ее составе прежде всего наличие ближайших потомков представителей различных аборигенных племен Северного и особенно Северо-Западного Причерноморья, по тем или иным причинам попавших в орбиту действия экономики и культуры греческой общины и в силу этого подвергшихся эллинизации (см. также: Audring. 1989. S. 23-24; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 101).
6. Довольно большие размеры и интенсивный характер жизни предградья на протяжении середины V — начала IV в. позволяют примерно оценить удельный вес предполагаемой социальной группы (категории) как весьма значительный.
7. Компактное проживание эллинизированных туземцев за городскими стенами заставляет думать, что речь в данном случае может идти о какой-то форме коллективной зависимости. При этом главным, если не единственным, родом занятий обитателей предградья должна была являться работа по обеспечению продуктами сельского хозяйства полноправного греческого населения Ольвии. Тем самым, как кажется, у нас появляется основание предполагать в ближайших окрестностях города V в. наличие достаточно обширных и энергично обрабатываемых земельных участков, принадлежавших гражданскому коллективу этого полиса.
8. Практическая синхронность прекращения жизни на территории предградья с развитием нового этапа внутренней колонизации Ольвией Нижнего Побужья, падающим на начало IV в. до н. э., равно как и большой размах этой колонизации, создает впечатление, что Ольвийскому полису, несмотря на значительную временную протяженность неблагоприятного периода, все же удалось сохранить часть своих сельскохозяйственных рабочих и использовать их в процессе создания новых аграрных поселений.
9. Следует учитывать, что любая этнокультурная интерпретация предградья, по-видимому, не позволяет видеть в нем место, где многочисленная свита (войско) скифского царя Скила пребывала продолжительное время в ожидании своего повелителя. Такое определение памятника представляется крайне дискуссионным, поскольку, во-первых, нет никаких оснований пересматривать достаточно корректный комментарий В. В. Латышева, трактовавшего слово ТО ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ как «просто открытую местность перед городом» (Латышев. 1987. С. 41 -42. Примеч. 8; ср. Audring. 1981 ), и, во-вторых, вызывает сомнение само стремление, да и возможность длительного пребывания войск скифов в относительно жест
106
ких непривычных условиях стационарного поселения, к быту и занятиям жителей которого они явно должны были испытывать род презрения.
Итак, итоги рассмотрения материалов предградья дают нам, как кажется, право предполагать, что даже при вполне вероятной диверсификации экономики Ольвии в первой половине V в., обусловленной необходимостью поиска новых источников продуктов, ее основой являлось скорее всего все-таки сельское хозяйство, базировавшееся на вновь созданной (или реорганизованной?) собственной хоре, расположенной в ближайших окрестностях этого города. Таким образом, одним из основных результатов нашего анализа событий этого времени становится окончательное признание факта дальнейшего ускоренного развития Ольвии, да, почти несомненно, и всех остальных эллинских центров Северо-Западного Причерноморья в период резкого обострения военно-политической и демографической обстановки в регионе. Совершенно очевидно, однако, что столь явное проявление поистине удивительной жизнеспособности колоний ионийцев в данной ситуации требует специального объяснения.
Первое, на что следует обратить внимание в этой связи, — опять-таки на отсутствие следов военных разрушений открытых селищ Нижнего Побужья, Поднестровья и, вполне вероятно, Северной Добруджи. Можно предположить, таким образом, что их обитатели по большей части имели возможность беспрепятственно, т. е. в более или менее спокойной обстановке, покидать обжитые места, унося при этом с собой весь мало-мальски ценный скарб. Заметим также, что отсутствие бесспорных следов мощного одноразового удара кочевой орды может быть, по-видимому, отмечено и во всех остальных областях Северного Причерноморья, в том числе и в районах проживания скотоводческо-земледельческих племен Среднего Поднепровья. Речь, скорее, должна идти о несколько растянутом и все нарастающем во времени давлении степняков. Более того, есть достаточно веские основания полагать, что многочисленное и, судя по погребальному обряду, весьма воинственное население лесостепной зоны Днепровского Левобережья вполне успешно и без серьезных потерь для своей культуры отразило натиск кочевников (Шрамко. 1987. С. 19;Моруженко. 1989. С. 33). Аналогичная ситуация, наконец, должна быть отмечена и по отношению к объединившимся перед лицом скифской угрозы городам Боспора (Виноградов Ю. Г. 1983. С. 348 сл.; Толстиков. 1984). Словом, нельзя не думать, что появившиеся в степном коридоре Северного Причерноморья с востока в самом начале V в. номады изначально, видимо, не обладали достаточной пробивной силой для нанесения сокрушительного удара по прежним хозяевам региона.
Более того, отмечая это, с нашей точки зрения, весьма вероятное обстоятельство, резонно предположить, что даже относительная слабость новоявленных обитателей степи сама по себе решительно ничего не может прояс
107
нить в случае, когда дело касается стабильности небольших, географически изолированных друг от друга греческих опорных пунктов Северо-Западного Причерноморья, а тем более существования в их окрестностях какого-то фонда постоянно обрабатываемых земельных угодий и пусть одиночных, но фактически совершенно беспомощных аграрных поселений. Вряд ли их безбедное функционирование могло быть обеспечено силами лишь одного гражданского коллектива колоний, даже если они и попытались в той или иной степени объединить свои усилия (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91). Суть дела, по-видимому, в ином — в опоре греков на военную мощь и авторитет той части самих варваров, которые были в наибольшей степени заинтересованы в поддержании и дальнейшем развитии с ними самых тесных взаимовыгодных экономических и иного рода контактов. Как полагает Ю. Г. Виноградов, именно в это время Ольвия и, по всей видимости, все остальные эллинские апойкии северо-западной части Понта впервые отдают себя под протекторат правителей Скифского царства (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 90-109).
Нет нужды останавливаться на рассмотрении конкретно-исторического содержания весьма плодотворной в своей основе идеи варварского протектората в представлениях названного автора. Гораздо важнее другое — вновь обратить внимание на факт отсутствия в степной зоне Северного Причерноморья конца VI — первой половины V в. до н. э. сколь-либо явственных следов (в археологическом выражении, разумеется), подтверждающих существование здесь единого и политически стабильного во временном отношении общественного образования номадов — так называемого Скифского царства, обладавшего к тому же якобы «мощным экономическим и военным потенциалом» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 84; ср. Хазанов. 1975. С. 229). Как было показано выше (см. главу II), археологические реалии этого периода отражают, скорее, состояние крайней неустойчивости, раздробленности и баранты в регионе. Таким образом, речь, по всей видимости, может идти в лучшем случае о правителях какого-то более или менее крупного подразделения номадов, которые за определенную плату (форос) взяли в этих условиях под свою защиту греческие центры интересующей нас территории, например, тех же царских скифов Геродота, с большим или меньшим правом считавших остальных обитателей Северного Понта своими рабами (Herod., IV, 20).
Но этого мало. Есть некоторые резоны полагать, что в своей основе проблематична сама вероятность отношений протектората именно со стороны кочевников этого времени, во всяком случае в том развитом облике стабильной внеэкономической эксплуатации греческих полисов, который в этих отношениях вполне справедливо усматривает Ю. Г. Виноградов. Нельзя забывать, что в первой половине V в. до н. э. новые группы пришельцев с востока находились еще на стадии завоевания новой родины. Они только что появи
108
лись в степном коридоре Северного Причерноморья и в силу этого обстоятельства просто не могли обладать достаточно длительным опытом культурных контактов с местными колониями, способным пробудить действительный интерес туземной элиты к столь упорядоченному контролю над хозяйством ионийцев. Впрочем, судя по тому, что нам известно о материальной культуре вновь появившихся обитателей степной зоны первой половины V в. до н. э., номады этого времени, по всей видимости, даже не имели достаточно четко выраженной социальной стратификации своего общества. И то и другое пришло к ним позже — начиная с последней трети V в. до н. э. Зато такой стратификацией и таким опытом контактов с эллинами в полной мере обладали прежние хозяева региона — полуоседлое население лесостепной зоны Северного Причерноморья и северной части Добруджи.
Итак, не перечеркивая полностью стремление ряда исследователей видеть в защитниках греков V в. от нападений мелких групп варваров, по тем или иным причинам не объединенных «под эгидой царственных наследников победителей Дария», вождей более крупных объединений номадов тех же царских скифов (Виноградов, Доманский, Марченко. 1990; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91 ), мы тем не менее оказываемся перед необходимостью выяснить возможность выбора на эту специфическую роль новых кандидатов из числа автохтонных жителей Причерноморья. При этом, очевидно, из этого ряда претендентов изначально следует исключить, по-видимому, обитателей Днепровского лесостепного Правобережья, поскольку в первой половине V в. они, судя по всему, довольно быстро утратили свое былое значение и, попав в зависимость от номадов, наверное, сами нуждались в активной поддержке.
Несколько более сложным представляется на первый взгляд решение вопроса о воинственных племенах Днепровского Левобережья. Как отмечалось выше, это население в общем и целом довольно успешно отразило натиск кочевников с юга. Однако надо признать, что в данном случае у нас просто нет никаких реальных материалов, которые можно было бы истолковать в качестве свидетельства прямого или хотя бы косвенного участия местных жителей в событиях первой половины V в., протекавших в степной зоне северо-западной части Понта.
Таким образом, в нашем распоряжении остается лишь одно — обратиться к рассмотрению соответствующих фактов археологии раннего железного века Северной Добруджи.
Первое, на что, пожалуй, необходимо обратить самое пристальное внимание в данной связи, — на более чем вероятное вхождение этого района в зону расселения кочевников скифской архаики. Во всяком случае, именно этим обстоятельством логичнее всего объяснять прекращение существования в первой половине — середине VII в. до н. э. поселений так называемой
109
культуры Бабадаг III, приписываемой гетам (см. также: Alexandrescu. 1990. S. 49,63; ср. Avram. 1990. S. 18). Равным образом допустимо предположить, что здесь, как, по-видимому, и во всех остальных случаях (см. главу II), номады в результате насильственного захвата новой родины образовали верхний пласт, своего рода элиту, в социальной структуре местных скотоводческо-земледельческих образований. Вполне естественно также думать, что с этого времени в Истро-Понтийской зоне на полную мощность был включен механизм культурной интеграции относительно небольшого числа завоевателей в иноэтничную среду туземного населения. Именно это последнее обстоятельство крайне затрудняет, а подчас делает просто невозможным сколь-либо четкое выделение северопричерноморского культурного элемента в Северной Добрудже интересующего нас времени. Особые сложности при этом, однако, возникают в связи с тем, что степень изученности памятников варварской части населения этого района до сих пор оставляет желать много лучшего.
Наиболее показательными в их числе, несомненно, являются материалы курганного некрополя Валя-Чиликулуй (Чилик-Доре) конца VII — VI вв. до н. э., демонстрирующие нам многочисленные параллели и аналогии туземным памятникам скифской архаики Северного Причерноморья (Simion. 1992. Р. 26 si urm.). В этом же ряду данных укажем на наличие в составе вещественных материалов ранних поселений округи Истрии лепной посуды, аналогичной скифской керамике лесостепной зоны Северного Причерноморья (см., например: Pippidi, Berciu. 1965. P. 91. Fig. 16; Moscalu. 1983. P. 54, 170-171). Напомним также, что обломки типично северопричерноморской посуды VI-V вв. до н. э. составляют заметную долю керамического комплекса так называемого «цивильного поселения» этой колонии (Dimitriu. 1966. Р. 55-56,498. Р1. 66, № 874,878, 885, 887. Р. 499. Р1. 67, № 897-899, 900, 902, 906). Равным образом известно, что кроме лепной посуды на территории «цивильного поселения» Истрии и поселения Тариверде обнаружены детали конской сбруи скифского облика VI в. до н. э. (Berciu. 1963; Мелюкова. 1976. С. 108. Рис. 1.1, 2; Alexandrescu. 1990. S. 65), а также наконечники скифских боевых стрел этого же времени (см., например: Bercui, Preda. 1961. Fig. 5.1; Мелюкова. 1979. C. 106; ср. Никулице. 1987. С. 39-40). Крайне любопытно отметить, наконец, в связи со всем вышеизложенным, что до сих пор единственная небольшая серия подкурганных захоронений туземной знати середины VI — начала V в. до н. э., открытая рядом с «цивильным поселком» Истрии, по совершенно справедливому замечанию автора раскопок П. Александреску, вполне определенно содержала целый ряд черт обряда и предметов из состава погребального инвентаря, прежде всего свойственных для северопонтийского племенного мира варваров (Alexandrescu. 1990. S. 65-66).
110
Таким образом у нас, как кажется, есть некоторые основания предполагать пребывание скифов в Добрудже еще задолго до начала V в. (ср. Мелюкова. 1979. С. 239). При этом нет никаких сомнений в том, что по крайней мере внешний облик культуры этой группы бывших завоевателей уже во многом отличается от принесенного ими с собой, и, по всей видимости, более всего он напоминал гетский. Однако столь же очевидно и то, что сам факт наличия отдельных, но бесспорно скифских признаков в ее структуре позволяет говорить о том, что еще далеко не все элементы традиции были утрачены к моменту появления в степном коридоре Северного Причерноморья новой волны номадов. Не случайно поэтому, быть может, придунайские геты даже в V в. до н. э. все еще более всего напоминали грекам кочевников скифов (Thuc., II,96,2; 98,4; см. также: Weiss. 1912. Sp.1932).
В заключение данного пассажа нам остается лишь напомнить, что наиболее ярким показателем глубины и продолжительности греко-варварских контактов является использование ионийцами северо-западной части Понта, жителями Истрии прежде всего, в торговле с местными туземцами весьма своеобразной формы протоденег, выполненных в виде двулопастной стрелы скифов VI в. до н. э. (ср. Avram. 1990. S. 24).
Вернемся, однако, к исходному пункту нашего поиска наиболее вероятных претендентов на роль протекторов ионийцев в первой половине V в. Как представляется ныне, одним из важнейших результатов только что проведенного рассмотрения археологических материалов архаического времени Северной Добруджи становится возможность включения в их число какого-то объединения туземцев Истро-Понтийской зоны. Совершенно очевидно, впрочем, что само по себе такое включение, проведенное нами лишь на уровне интерпретации крайне скудных и к тому же далеко не однозначно трактуемых исследователями фактов археологии раннего железного века, по существу является не чем иным, как просто осторожным предположением. Тем не менее оно все-таки допустимо, и главное, в его пользу могут быть найдены дополнительные и независимые от археологических материалов аргументы, способные, как кажется, придать занятой нами позиции вид более или менее обоснованной гипотезы.
Солидным подкреплением высказанной точки зрения на сей раз оказываются, прежде всего, данные античной литературной традиции, содержащиеся в IV книге «Истории» Геродота. Первое, на что необходимо обратить внимание в этой связи, — на само название северной части Добруджи: старая, или древняя Скифия (Herod., IV, 99, 2), свидетельствующее, быть может, также в пользу относительно раннего проживания скифов на этой территории (ср. Куклина. 1985. С. 558-559), Равным образом нельзя не обратить внимания и на то, что буквально все сообщения отца истории о наиболее вероятных, с точки зрения Ю. Г. Виноградова, протекторах ионийцев
111
первой половины V в. — скифских «царях» Ариапифе, Скиле и Октамасаде (Herod., IV, 78-80), географически ограничены лишь одной областью Причерноморья — его западной, а отнюдь не восточной частью, где, по всей видимости, располагались кочевья так называемых царских скифов Геродота (IV, 20); этой же областью, как известно, ограничиваются и все находки монет V в., приписываемых «царям» скифов и их наместникам (Карышковский. 1984; 1987; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 93-94, 106-107). Но и это еще не все. Как показывает даже беглый анализ все тех же глав текста «Скифского логоса», большинство событий, так или иначе связанных с жизнедеятельностью названных выше туземных династов, происходило на еще более узком участке степей — в районе Подунавья. Напомним, наконец, что здесь же, в окрестностях Истрии, где находилось единственное из до сих пор известных нам родовых кладбищ правителей местного населения, был обнаружен и вполне материальный свидетель этих событий — золотой перстень Скила и, возможно, одного из его венценосных предшественников — Аргота (Виноградов. 1980б). Можно думать, что именно Северная Добруджа с примыкавшими к ней с севера степями являлась основной территорией пребывания скифов, возглавляемых Ариапифом—Скилом—Октамасадом.
В заключение данного сюжета нам остается лишь дать небольшую коррекцию версии скифского протектората первой половины V в. до н. э., разработанной Ю. Г. Виноградовым. Сразу же заметим, что предлагаемая трактовка событий ни в коей мере не затрагивает саму идею и основное содержание зависимости ионийских полисов этого времени Северо-Западного Причерноморья от варваров. Речь идет о другом — о внесении ряда более или менее оправданных изменений в наши представления о конкретном носителе властных функций и, отчасти, самом ходе развития процесса подчинения.
Начать следует, по-видимому, с вполне допустимого предположения, что вскоре после основания греками своего древнейшего поселения в дельте Дуная здесь, рядом с Истрией, довольно быстро, не позднее самого начала VI в. до н. э., во всяком случае, начинает формироваться более или менее крупное потестарное объединение туземцев, возглавляемое скифской аристократией, вступившей в длительные и самые непосредственные контакты с колонистами. Основой этих контактов являлось, скорее всего, некое соглашение, так или иначе регулирующее отдельные стороны жизнедеятельности выходцев из Эгеиды (см. также: Avram. 1990. S. 24-25). Нельзя не учитывать, во всяком случае, что только вполне доброжелательное отношение к переселенцам со стороны варваров могло создать достаточно надежные условия для перехода греков уже во второй четверти VI в. к непосредственному освоению экономического потенциала близрасположенных территорий путем создания здесь небольших и, по-видимому, неукрепленных
112
селищ. Более того, именно покровительственное отношение туземной элиты, так или иначе контролировавшей прилегавшие к Добрудже с севера степные пространства, позволило Истрии во второй половине названного столетия распространить свое экономическое влияние далеко на восток, вплоть до территории Нижнего Поднестровья, где как раз ею, быть может, и был создан один из основных опорных пунктов ионийцев — Никоний (Avram. 1990. S. 24). Таким образом, как кажется, не будет слишком уж большой смелостью предположить, что сам институт протекционизма скифов по отношению к грекам, основанный на какой-то, но, несомненно, обоюдоприемлемой для обеих сторон договорной основе, мог зародиться гораздо раньше, нежели это было отмечено Ю. Г. Виноградовым, — еще в первой половине VI в. до н. э. (см. также: Preda. 1985. S. 265-266). Другое дело, что в начале V в. он претерпел, по всей видимости, кардинальные изменения и ему невольно был придан, прежде всего, характер оборонительного союза.
Первым, вполне вероятным толчком, способным повлечь за собой радикальную трансформацию в устоявшихся отношениях греков с варварами в районе Подунавья, в принципе мог уже стать так называемый скифский поход Дария I Гистаспа, обычно датируемый исследователями 519 г. (см., например: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 81 ; Alexandrescu. 1990. S. 66,86. Anm. 146 bis; ср. Черненко. 1984. С. 11). Впрочем, следует допускать, что кратковременность этого предприятия должна была лишь ненадолго динамизировать военно-политическую обстановку в Истро-Понтийской зоне. Как явствует из дошедших до наших дней справок античной литературной традиции, основной удар персов пришелся, скорее всего, все-таки в пустоту и в целом не затронул местных жителей (см.: Herod., IV, 120-142; Strab., VII, 3, 14).
Значительно более масштабные последствия в этом смысле имели события начала следующего века, когда туземное население Северной Добруджи, по всей видимости, вынуждено было развернуть упорную и не во всех случаях удачную борьбу с только что возникшим и ставшим стремительно расширять свои владения на север, в сторону Истра, молодым царством одрисов Тереса и его сына Ситалка.1 Напомним также, что примерно в это же время с другой стороны, на востоке, в зоне жизненных интересов обита
1 Вполне допустимо предполагать вслед за Ю. Г. Виноградовым, кстати, что хронологический отсчет этой конфронтации следует вести от момента военного набега скифов на Фракию (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 85-86), предпринятого ими, как полагает большинство специалистов, в 496-495 гг. (см., например: Доватур, Каллистов, Шишова. 1982. С. 389-390. Ком. 317,319). Равным образом, нельзя исключать, что так называемое первое разрушение Истрии, датируемое также первым десятилетием V в. (Alexandrescu. 1990. S. 67), может быть опять-таки связано с началом кровопролитной борьбы скифов с фракийцами.
113
телей Истро-Понтийского района начали появляться первые группы новой волны воинственных номадов, а на северо-западных рубежах у скифов, судя по замечанию Геродота (IV, 78, 2), возникли серьезные трения с агафирсами Спаргапифа. Словом, создается полное впечатление, что жители Подунавья первой половины V в. в конечном счете оказались в жестком кольце окружения враждебных и по большей части весьма сильных в военном отношении соседей. Нетрудно заметить, таким образом, что в результате этого окружения здесь, в северо-западной части Понта образовалось нечто, довольно близко напоминающее по своему историко-географическому, этнокультурному и военно-политическому состоянию так называемую Малую Скифию Страбона (VII, 4, 5). Именно в этой критической ситуации и должно было произойти всемерное упрочение связей постоянных обитателей «Малой Скифии» — скифов Ариапифа—Скила—Октамасада и греческих общин района, и именно в это время их отношения закономерно должны были принять облик военного союза, главенствующей и, надо полагать, далеко не бескорыстной силой которого, безусловно, являлись варвары.
В заключение нам остается заметить, что как раз в это время здесь, на территории «Малой Скифии», в процессе создания отношений протектората был достигнут наивысший уровень культурных взаимодействий ионийцев и скифов, выразившийся, в частности, в появлении в среде местной аристократии первых вполне эллинизированных представителей туземной элиты, выпуске отдельными греческими полисами серий монет, удостоверяющих сюзеренитет скифских династов, и, главное, в формировании целостной системы вполне упорядоченного контроля варваров над экономической сферой жизнедеятельности колоний (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 93-109). Впрочем, как представляется ныне, почти весь накопленный опыт взаимодействий греков и варваров в этом районе был вскоре утерян. Не позднее начала второй половины V в. старая скифская аристократия Истро-Понтийской зоны, по всей видимости, полностью утратила свое былое значение и либо распалась под ударами своих грозных противников, либо была подчинена одрисами Ситалка и окончательно растворилась в иноэтничной среде гетов. С этого момента и вплоть до начала экспансии сарматских племен на запад единственными хозяевами северо-западной части Понта, за исключением Добруджи, становятся кочевые орды скифов, пришедшие в степной коридор Приднепровья еще во второй четверти V в. Тем самым была окончательно закрыта первая (архаическая) и открыта новая (классическая) страница в истории развития греко-варварских отношений в этом районе. Наиболее ярким и одновременно наиболее существенным следствием кардинального изменения военно-политической и демографической обстановки в Причерноморье явилась реколонизация сельских территорий Нижнего Побужья и Поднестровья.
114
3.2. Реколонизация сельских территорий Северо-Западного Причерноморья
Начало нового, второго по счету подъема жизни на сельских территориях Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья в настоящее время определяется несколько по-разному: от 400 г. до н. э. до начала и даже первой половины IV в. до н. э. (Рубан. 1988. С. 18; Доманский. 1981. С. 162-163; Отрешко. 1982. С. 37-39; Охотников. 1983. С. 119; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 138). Сразу же заметим, что имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные (см., например: Марченко К. К. 19836, 19856, 19876; Виноградов, Марченко. 1986. С. 66-67; Марченко, Доманский. 1986. С. 48, 55) позволяют внести существенные коррективы в уже высказанные на сей счет в печати соображения и догадки. Они заставляют думать, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности в округе Ольвии, да, по-видимому, и остальных греческих центров северо-западной части Понта, следует относить к значительно более раннему времени — последней трети V в. до н. э. (см. также: Виноградов, Марченко. 1985; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99). Впрочем, столь же очевидно, пожалуй, и другое — постепенность нарастания процесса заселения берегов древних лиманов этого района, принявшего действительно большие размеры лишь в первой трети следующего века.
Что касается самих масштабов реколонизации, охватившей в целом весьма продолжительный период — от последней трети V до первой трети III в. до н. э., — то судя по опубликованным материалам (см., например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. Карта; Охотников. 1983. С. 103; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. Рис. 35. С. 98; Крыжицкий, Буйских, Отрешко. 1990. С. 44 сл.), они явно и намного превосходили соответствующие параметры освоения аграрных территорий позднеархаического периода. Достаточно сказать, что только в Нижнем Побужье ныне зафиксированы следы функционирования более чем 150 населенных пунктов этого времени (рис. 7); несколько меньшее, но все-таки тоже весьма впечатляющее количество сельских поселений — около 85 единиц — было, по-видимому, основано тогда же и в Нижнем Поднестровье. Следует заметить, правда, что значительная часть памятников такого рода скорее всего представляла собой лишь временные или сезонные стоянки рыбаков, скотоводов или земледельцев (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 101-102).
Тем не менее можно считать, что и в данном случае речь опять-таки идет о достаточно крупном хозяйственном, культурном и, безусловно, демографическом явлении в истории античного населения Северо-Западного Причерноморья.
115
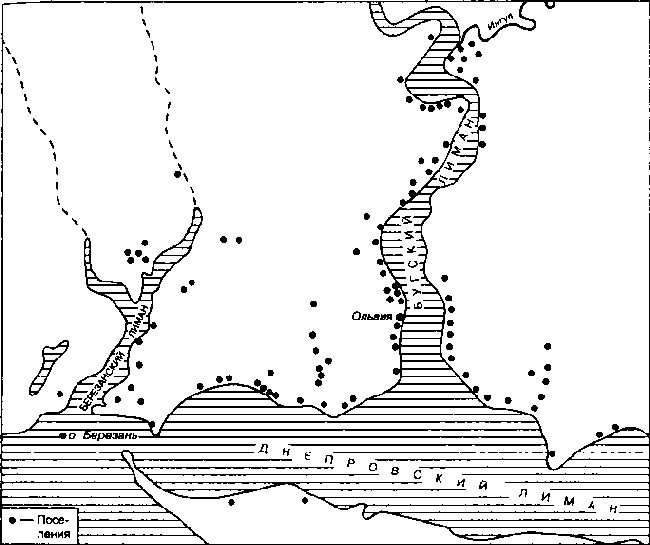
Рис. 7. Поселения Нижнего Побужья последней трети V — первой трети III в. до н. э.
В числе главных причин, вызвавших указанное явление к жизни, исследователи обычно называют несколько, а именно: реорганизацию земледельческой территории Ольвии (Рубан. 1978. С. 41; 1988. С. 18), появление эпойков из метрополии (Отрешко. 1982. С. 37-38; Рубан. 19886. С. 18), интенсивное оседание туземцев на землю (Доманский. 1981. С. 162-163), уничтожение скифского протектората над Ольвией и другими греческими городами Северо-Западного Причерноморья и связанное с этим уничтожением свержение местной тирании, повлекшее за собой «стремление обновленного Ольвийского государства восстановить одну из главных отраслей своей экономики, нормальное функционирование которой было нарушено диктатом варваров» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 138), и, наконец, просто экономическую активность этого полиса в конце V — III в. до н. э. (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100).
Переходя теперь к оценке существующих точек зрения и изначально признавая за ними в той или иной мере право на существование — особенно,
116
что касается мнения о заинтересованности греческих колоний в оптимизации своих сельскохозяйственных владений, — заметим все же, что ни одна из них не может считаться полностью удовлетворительной.
Наименее вероятным, хотя, разумеется, и не невозможным выглядит предположение о появлении в районе Ольвии новой волны эпойков из метрополии. Будучи основано почти исключительно на логическом допущении, оно к тому же, по всей видимости, исходит из абсолютизации явно дискуссионного тезиса о преимущественно эллинском составе обитателей аграрных селищ. При этом, кажется, совершенно не учитываются по меньшей мере еще два немаловажных обстоятельства — одновременный подъем оседлой жизнедеятельности во всех остальных районах греческой колонизации Северного Причерноморья, но главное — значительную хронологическую растянутость нарастания темпов заселения сельских территорий Нижнего Побужья, максимум которого приходится уже на раннеэллинистический период (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100).
Значительно более приемлемым, но все-таки тоже односторонним решением задачи представляется и другой подход, ставящий во главу процесса реколонизации оседание номадов на землю. В данном случае, как очевидно, вне поля зрения анализа существа дела во многом оказывается довольно многочисленная группа разнообразных археологических фактов, прямо свидетельствующих в пользу не только опосредованного (культурного и экономического), но и прямого (физического) участия эллинов в освоении целого ряда новых аграрных поселений в окрестностях собственных колоний. Отметим также, что, судя по всей совокупности материалов степной зоны Причерноморья, указанное явление, т. е. оседание туземцев, приняло интенсивный характер гораздо позднее начала второго этапа заселения сельских районов Северо-Западного Понта — в середине — второй половине IV в. до н. э.
В значительной степени мимо цели бьет, наконец, и идея о стремлении Ольвийского полиса восстановить запустевшую хору только после преобразования своей политической системы — перехода к демократии, происшедшего, по-видимому, лишь в начале IV в. (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 135 сл.; ср. Рубан. 19886. С. 18). Как уже отмечалось выше, имеющиеся на сей счет данные однозначно указывают, что первые признаки нового оживления сельскохозяйственной деятельности на территории Нижнего Побужья следует относить к более раннему времени — последней трети V в. Тем самым ставится под сомнение вероятность прямой связи начала этого явления только с внутриполитическими событиями в полисе, поскольку последние, по всей видимости, могли в лучшем случае лишь способствовать ускорению уже начавшегося ранее процесса, т. е. придать ему большую, чем прежде, энергию и организованность.
117
Вернемся, однако, к исходному пункту поиска наиболее вероятных причин реколонизации и, с учетом положительных сторон только что рассмотренных нами точек зрения на проблему, попытаемся найти наиболее приемлемое решение этой задачи. Начать, по-видимому, следует еще раз с подтверждения факта прямой заинтересованности греческих полисов северо-западной части Понта в максимальном расширении своих сельскохозяйственных владений. Равным образом, столь же очевидным представляется и то, что размеры этих владений во многом определялись количеством трудоспособного населения колоний и наличием или отсутствием свободного фонда земельных участков в их окрестностях; не менее важным условием достижения оптимальных размеров хоры должна была являться, наконец, и соответствующая, т. е. достаточно благоприятная, военно-политическая обстановка в регионе, позволяющая грекам в полной мере использовать наличествующие в данный момент ресурсы.
Оценивая под указанным углом зрения ситуацию в Нижнем Побужье и Поднестровье в канун нового подъема оседлой жизнедеятельности, свидетельствующую в пользу заметного роста народонаселения эллинских центров и крайне малой заселенности аграрных территорий, можно уверенно предположить, что основным камнем преткновения на пути максимального освоения экономического потенциала названных районов являлась все еще существующая угроза военных акций со стороны кочевников. Именно это последнее обстоятельство, на наш взгляд, и определило в дальнейшем замедленный темп и специфический облик развития начального этапа реколонизации.
Переходя теперь к непосредственному рассмотрению содержания этого этапа, напомним, что в начале второй половины V в. в степной зоне Северо-Западного Причерноморья произошла, по-видимому, смена хозяев. С уходом с исторической арены старой скифской элиты Истро-Понтийской зоны единственной силой, способной в той или иной мере диктовать условия существования местных греческих полисов, становятся скифы Поднепровья. Как представляется далее, столь радикальное изменение в расстановке главных действующих лиц уже само по себе должно было способствовать зарождению очередного периода относительной стабилизации обстановки в этом районе Понта. Возникали реальные предпосылки для перехода практически всего комплекса греко-варварских контактов на более упорядоченную (договорную) основу.
Нет сомнений, впрочем, что как ранее, так и теперь главным стимулом упрочения этих контактов служила кровная заинтересованность элиты варваров в получении возможно большего количества высококачественной продукции греческих ремесленников и виноделов. Получив в свои руки контроль над «излишками» продуктов земледелия приведенной в зависимое со-
118
стояние части оседлого населения лесостепных районов Северного Причерноморья (см. главу II), новые хозяева региона одновременно получили и прекрасные возможности для налаживания широкомасштабных торговых операций с эллинскими центрами. Весьма существенную роль в организации стабильной поставки элите вожделенных изделий была призвана сыграть, надо думать, и внеэкономическая эксплуатация самих греков, вынужденных для обеспечения собственной безопасности выплачивать в это время номадам какой-то трибут.1
Вместе с тем не приходится сомневаться также и в том, что на начальной фазе раскручивания очередного витка отношений с кочевой знатью новый механизм контактов иногда мог давать сбои в работе. Социальная психология вчерашних завоевателей, способных при благоприятных условиях нанести неожиданный удар в спину, еще длительное время, вплоть до перехода к массовой седентаризации туземцев, должна была постоянно подпитывать чувство некоторой неуверенности у греков в своем завтрашнем дне. Не случайно поэтому, быть может, эпиграфические памятники именно первой половины IV в. демонстрируют нам неустанную заботу ольвиополитов о всемерном укреплении обороноспособности города (Виноградов Ю. Г, 1989. С. 138-139).
Наиболее убедительные доказательства отсутствия достаточно благоприятной военно-политической обстановки для прямого перехода к крупномасштабной реколонизации свободных земель обнаруживаются, однако, как всегда, за пределами городских стен, на хоре. В их числе в первую очередь следует обратить внимание на чрезвычайно растянутое, так и хочется сказать робкое, развитие хода второго этапа освоения территорий. Достаточно заметить, что к начальной фазе этого процесса даже в относительно хорошо изученном районе Нижнего Побужья на сегодняшний день с большей или меньшей долей вероятности могут быть отнесены остатки всего лишь двухтрех строительных комплексов последней трети V в. — наземной усадьбы № 27 и большой землянки № 24, прежде всего, зафиксированных на площади ранее покинутых позднеархаических поселений Чертоватое 7 и Старая Богдановка 2 (Марченко. 19856; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 122-123). Все остальные свидетельства нового подъема оседлой жизнедеятельности в Нижнем Побужье, да, по-видимому, и в Нижнем Поднестровье, до сих пор приходится связывать с присутствием в культурных слоях отдельных селищ сравнительно небольших серий керамических материалов и единичных хозяйственных ям этого времени.
1 Надежным свидетельством установления скифами конца V в. податей для греков Северо-Западного Причерноморья является информация, содержащаяся в частном письме из Керкинитиды (см.: Соломоник. 1987; ср. Виноградов Ю. Г. 1989. С. 91 ).
119
Другим, с нашей точки зрения, вполне вероятным показателем ожидания враждебных поползновений со стороны скифов может служить и факт отсутствия на территории новых и в структуре возобновленных сельских населенных пунктов северо-западной части Понта даже первой половины IV в. сколь-либо значительного числа долговременных, т. е. относительно дорогих и требующих больших затрат труда, наземных сырцово-каменных построек греков. Анализ старых и только что появившихся археологических материалов нив коем случае не позволяет ныне соглашаться с до сих пор все еще широко бытующим среди специалистов мнением, согласно которому здесь уже «в течение первой четверти IV в. возникает целый ряд урбанизованных поселков с развитым домостроением» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 99, 150; ср. 106-123, 149).
Напротив, есть все основания полагать, что подавляющее большинство жилых и хозяйственных сооружений, функционировавших на территории этих памятников в первой половине указанного столетия, принадлежало к категории весьма примитивных и, как правило, довольно простеньких в своем изготовлении землянок и полуземлянок (см., например: Мелюкова. 1975. С. 9-19; Марченко, Доманский. 1986. С. 55-57; Головачева. 1987. С. 79; Марченко. 19886; Марченко, Соловьев. 19886. С. 49; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 104-106; Буйских. 1989; Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991).
Наконец, третьим, и, конечно же, самым отчетливым свидетельством реальной возможности военных столкновений является наличие по крайней мере у некоторой части поселений последней трети V — первой половины IV в. искусственно созданных линий защиты. Уже одна из самых первых постоянных построек этого времени — упоминавшаяся выше усадьба № 27, расположенная в непосредственной близости от Ольвии, имела «относительно мощные обводные стены всего здания» и внутреннее квадратное помещение, «по-видимому, башенного типа», что, по мнению исследователей, может быть расценено в качестве элементов обороны (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 122-124). Значительно более солидной системой укреплений, вполне вероятно, обладал другой памятник Нижнего Побужья этапа реколонизации — Софиевка 2, на территории которого, согласно наблюдениям С. Б. Буйских, были обнаружены остатки «каменной крепостной стены и выкопанного с ее напольной стороны рва» (Буйских. 1989). Однако, безусловно, наиболее достоверное доказательство существования фортификационных сооружений у ранее считавшихся совершенно открытыми аграрных поселков района было недавно получено при тотальном обследовании площади еще одного рядового селища этого времени — Козырка 12, где удалось полностью открыть следы сразу двух последовательно сменявших друг друга рубежей обороны, каждый из которых вклю
120
чал в свою структуру мощную ограду из глубоко вкопанных в материк деревянных столбов и небольшой конусовидный ров у ее внешней щеки.1 В этом же смысле, наконец, может быть расценено и предполагаемое выведение ольвиополитами на рубеже V-IV вв., или, что наименее вероятно, в начале IV в. в район Северо-Западного Крыма нескольких своих форпостов — небольших, но хорошо укрепленных поселений-фрурионов типа Панское I, Караджинское и «Чайка» (Щеглов. 1986. С. 166,168. Прим. 35; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 313-314).
Какие же силы приняли участие в процессе реколонизации сельских территорий Северо-Западного Причерноморья? Кто основал и заселил новые поселения в окрестностях греческих центров этого района? Нельзя не видеть, что и в данном случае мы вновь стоим перед проблемой, которую в свое время пытались разрешить по отношению к аграрным селищам позднеархаического периода.
Исходным пунктом поиска ответа на поставленные вопросы, как и ранее, будет признание факта исторической обусловленности очередного подъема и дальнейшего развития оседлой жизни в Нижнем Побужье и Нижнем Поднестровье экономической деятельностью местных ионийских государственных образований. Именно это обстоятельство, надо думать, во многом и предопределило хозяйственный и культурный облик самих поселений. Значит ли это, однако, что речь в дальнейшем безусловно должна идти только об эллинах как о единственных и самых непосредственных участниках реколонизации? Отнюдь.
Обращаясь теперь к рассмотрению наиболее показательных с этнической точки зрения элементов материальной культуры новых поселений, мы наряду с вполне естественным в таком случае весьма значительным греческим компонентом обнаруживаем в их числе и несомненные свидетельства физического присутствия выходцев из туземной части населения Северного Понта. При этом заметим сразу, что накопленная на сегодняшний день информация в принципе позволяет выделить отдельные комплексы с относительно большим, иногда даже подавляющим, и относительно небольшим, едва уловимым, содержанием этих черт.
Среди последних прежде всего следует назвать лепную керамику (рис. 8). Как установлено ныне, обломки посуды, сработанной от руки без применения гончарного круга, имеются в составе керамических материалов буквально всех до сих пор так ил и иначе изученных памятников интересующих нас районов. Равным образом, достойно внимания также и то, что удельный вес такого рода изделий, используемых в быту обитателей сель-
1 Раскопки Нижнебугской античной экспедиции ЛОИА АН СССР 1989-1990 гг. под руководством Е. Я. Рогова. Материалы работ не опубликованы.
121

Рис. 8. Лепная керамика Нижнего Побужья классического и раннеэллинистического времени
122
ских территорий, значительно превышал количество аналогичной посуды, изготавливаемой жителями городских центров, и имел к тому же статистически достоверные и весьма существенные колебания в конкретных комплексах — от 12-36, а иногда и более процентов (без учета амфорной тары) на большинстве поселений Нижнего Побужья (см. также: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 127-128; Буйских. 1989. С. 23) до 30-80% на побережье Одесского залива и в Нижнем Поднестровье (см., например: Дзис-Райко. 1961. С. 38; Мелюкова. 1975. С. 23; Диамант. 1976. С. 211). Можно предположить, что число туземцев на отдельных поселениях этого времени было весьма различно. Впрочем, нельзя не согласиться и с мнением, высказанным целым рядом исследователей, согласно которому отмеченные выше несоответствия удельных весов могут в какой-то степени отражать и уровень зажиточности обитателей тех или иных населенных пунктов (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 128). Логично думать, что гораздо более качественная продукция греческих гончаров-профессионалов должна была быть одновременно и менее доступной для приобретения, нежели сработанная в домашних условиях. При этом, однако, в первую очередь следует исходить из того в высшей степени оправданного допущения, что именно в силу этого, последнего обстоятельства подавляющая часть необходимой в повседневной жизни бытовой и кухонной керамики как раз и должна была изготовляться самими варварами, вряд ли в массе обладавшими такими же возможностями, как и граждане полиса, для удовлетворения своих потребностей в явно более престижных, но вместе с тем и более дорогих товарах ремесленного производства. Не случайно поэтому, быть может, в составе материалов лепной посуды этапа реколонизации впервые вполне отчетливо фиксируется довольно представительная группа изделий (не более 10% объема комплексов), имитирующая наиболее расхожие формы греческой кружальной кухонной, бытовой и столовой керамики (см., например: Русяева. 1968. С. 212; Мелюкова. 1975. С. 56; Доманский, Марченко. 1980. С. 31, 32. Рис. 10.5-7. С. 35; Марченко К. К. 1988а. С. 125- 126; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 134). Будучи по сути своей прежде всего показателем более чем скромного имущественного состояния сельских жителей, это явление, с другой стороны, по-видимому, может быть истолковано в качестве прямого свидетельства глубокого воздействия античной культуры на быт хотя бы и части местного населения окрестностей эллинский центров (Доманский, Марченко. 1980. С. 33).
Вместе с тем не приходится сомневаться и в том, что даже в условиях значительно более развитого, нежели в предыдущие времена, внутреннего и внешнего рынков Ольвийского, да, пожалуй, и всех остальных греческих полисов Северо-Западного Причерноморья и теснейших культурных контактов с ними подавляющее количество туземного населения сельских рай
123
онов продолжало изготавливать и использовать в своем обиходе разнообразную посуду чисто варварского облика. Судя по морфологическому набору типов, основой комплекса этого времени являлась лепная керамика, находящая себе самые непосредственные аналогии прежде всего в материалах скифских памятников степного коридора Северного Понта, что, на наш взгляд, однако, не обязательно указывает на номадов как на единственный источник пополнения туземной части оседлого населения Нижнего Побужья и Поднестровья. Нельзя забывать, что, по сути дела, тождественная посуда тогда же была распространена и в ряде районов лесостепной зоны этого региона, например, у жителей Днепровского Правобережья. Заметим также, что в пользу некоторой диверсификации этнокультурного состава варваров прямо свидетельствует и наличие типично гетской посуды в слоях IV в. аграрных поселений Нижнего Поднестровья (см., например: Мелюкова. 1975. С. 51-53). Впрочем, нельзя не признать и того, что соответствующие материалы первой половины названного столетия другого района реколонизации — Нижнего Побужья, в этом же смысле выглядят более однородными. Только со второй половины IV и особенно в начале следующего века здесь после длительного хронологического периода вновь появляются более или менее отчетливые следы пребывания выходцев из западных областей варварского хинтерланда (Марченко К. К. 1974. С. 157-159; 1988а. С. 83-85, 126-127; Доманский, Марченко. 1980. С. 31. Рис.10.1-3).
Вторым элементом материальной культуры новых памятников, способных, на наш взгляд, также вполне надежно удостоверить присутствие туземного по своему происхождению компонента в составе оседлого населения приморской полосы северо-западной части Понта, оказываются опять-таки археологические реалии аграрных селищ — землянки и полуземлянки (рис. 9.1 -2). Напомним сразу, что именно этот вид жилых и хозяйственных сооружений практически полностью доминировал в застройке если не всех, то уж во всяком случае подавляющего большинства поселений, расположенных на территории земледельческой округи эллинских центров Нижнего Побужья и Нижнего Поднестровья вплоть до середины — начала второй половины IV в. Только с этого времени здесь начинается переход к массовому строительству многокомнатных наземных сырцово-каменных домов греческих типов. При этом, однако, строительство землянок и полуземлянок полностью не прекратилось и далее. Более того, в настоящее время есть все основания утверждать, что по крайней мере в некоторых случаях такого рода постройки все еще продолжали образовывать ядро отдельных частей аграрных селищ вплоть до начала следующего столетия (Марченко, Соловьев. 1988б).
Что касается внешнего облика земляных сооружений второго этапа заселения сельских районов Северо-Западного Причерноморья, то в данном отношении необходимо обратить внимание на существенное обеднение чис-
124
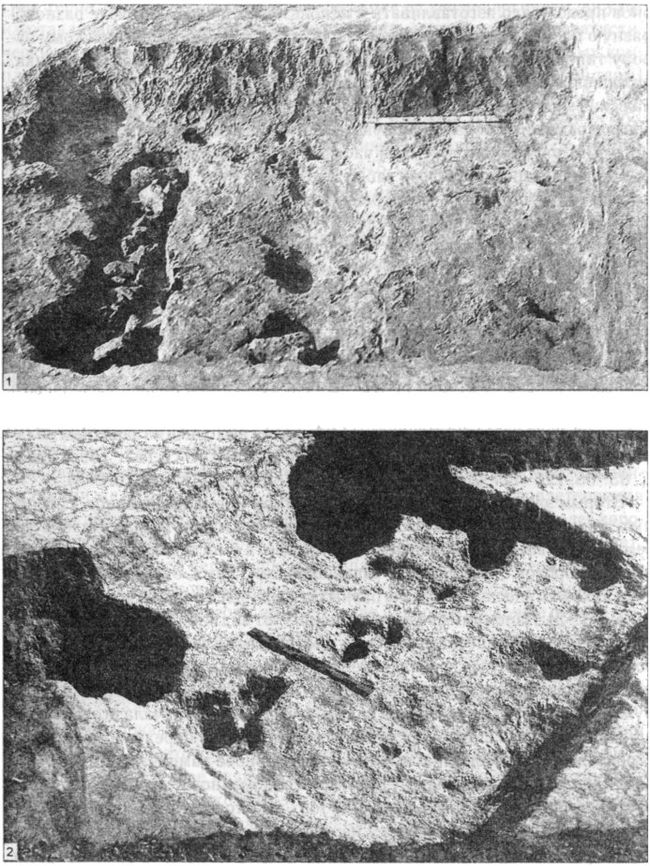
Рис. 9. Остатки землянок и полуземлянок на сельских поселениях Нижнего Побужья IV — первой трети III в. до н. э. (1 — поселение Куцуруб 1 ; 2 — поселение Козырка 12)
125
ла морфологически различимых типов этих построек. Анализ имеющегося материала однозначно показывает, что в отличие от позднеархаического периода излюбленной формой жилищ новых поселенцев становятся почти исключительно прямоугольные в плане структуры. Обычные размеры землянок — от 3-4 до 10-12 м2. Впрочем, на территории отдельных поселений известны и гораздо более крупные постройки — до 45-60 и даже 170 м2 (Мелюкова. 1975. С. 9; Марченко. 19856; Марченко, Соловьев. 19886. С. 52-53).
Подавляющая часть комплексов — однокамерные структуры. Крайне редко и, как правило, в эллинистическое время землянки имели внутреннее членение на отдельные помещения (Марченко, Соловьев. 19886. С. 52-53). Судя по дошедшим до наших дней остаткам, основными видами строительных материалов при возведении внешних стен и внутренних перегородок являлись глина, дерево и турлук. Ко всему сказанному остается лишь добавить, что безусловное большинство землянок IV в. в своем интерьере не имело постоянных очагов и печей и, по всей видимости, должно было отапливаться в холодное время года переносными жаровнями.
Вместе с тем нельзя не отметить, что практически все эти в общем-то весьма примитивные сооружения до сих пор обычно рассматриваются в литературе в качестве временного или, точнее, переходного типа построек. Ничего не меняет в этой оценке и факт сосуществования на некоторых памятниках углубленных в землю жилищ с наземными домами: ведь всегда имеется возможность отнести первые к категории хозяйственных или подсобных помещений. Как полагает ныне значительная часть исследователей, «использование переселенцами на начальных этапах земляночного строительства является исторической закономерностью», поскольку-де «в ходе вторичного освоения Нижнего Побужья земляночный тип должен был снова войти в употребление как наиболее экономный и доступный новым поселенцам» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 104; ср.: Рубан. 1985. С. 33). При этом, очевидно, под самими переселенцами подразумеваются почти исключительно одни лишь эллины.
Нет нужды в полном объеме останавливаться на оценке достоверности указанной точки зрения. Положенная в ее основу аргументация в целом явно сродни той, которая была во многом отвергнута нами при рассмотрении материалов «реликтовых» форм жилищ более раннего времени (см. выше). В данной связи можно заметить, пожалуй, лишь то, что, как и в первом случае, господствующая на сегодняшний день культурная интерпретация «примитивных» структур этапа реколонизации не может быть признана удовлетворительной сразу же по нескольким причинам. Она прежде всего фактически не учитывает наличие прямой генетической связи таких жилищи деталей их внутреннего устройства с соответствующей строительной традицией обитателей бесспорно варварских селищ Северного Причерно
126
морья. Единственная оговорка на сей счет делается пока лишь только в отношении уже упоминавшейся выше большой землянки № 24, обнаруженной в Нижнем Побужье, в структуре поселения Старая Богдановка 2 (см.: Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 147). Совершенно необъяснимым в этих же рамках остается и другое — факт чрезвычайно длительного использования сельскими жителями почти исключительно земляночных сооружений. На поверку как бы оказывается, что греческие поселенцы (эпойки или же граждане полиса — неважно!) вынуждены были вместе со своими домочадцами в течение жизни трех поколений вновь довольствоваться крайне примитивными условиями быта. И это, заметим, в период радикальной демократизации общественно-политического строя колоний и небывалого расцвета строительной и культурной деятельности на территории собственно ионийских центров Северо-Западного Причерноморья. К сказанному остается лишь добавить, что весьма вероятное создание выходцами из Ольвии уже в начале IV в. в северо-западной части Крыма серии фрурионов, выполненных в типично эллинской культурной традиции, в принципе вообще ставит под большое сомнение презумпцию об исторической обусловленности сколь-либо широкого использования греческими переселенцами столь примитивных сооружений, каковыми несомненно являлись земляночные структуры.
Впрочем, основной недостаток рассматриваемой позиции находится в иной плоскости. Анализ всей совокупности археологических материалов свидетельствует в пользу вполне самостоятельной, т. е. во многом не зависимой от строительной традиции греков, линии типологического развития этих «архаичных» построек в культуре рядовых памятников интересующего нас времени. Есть веские основания полагать, что господствующие на начальной фазе реколонизации обычные однокамерные землянки и полуземлянки при изменении военно-политической ситуации в регионе к лучшему не были просто автоматически и полностью заменены в середине — второй половине IV в. на значительно более комфортабельные наземные сырцовокаменные дома ионийцев, а, продолжая существовать и далее, постепенно начали трансформироваться в рамках одного и того же типа в более сложные по своему конструктивно-планировочному решению сооружения.
Необходимо подчеркнуть также, что только в раннеэллинистическое время, т. е. по прошествии не менее трех четвертей столетия, при создании такого рода построек впервые в заметных размерах начинают применяться и новые наиболее прогрессивные строительные материалы, в том числе камень и сырец, что логичнее всего связывать с воздействием на туземцев более развитой культуры греков. В этот же период, наконец, несомненно усиливается и дифференциация землянок по их функциям, ведущая в свою очередь к увеличению вариабельности типа в целом.
127
В заключение заметим, что наиболее наглядные иллюстрации только что сделанным замечаниям и суждениям дает одно из недавно изученных рядовых поселений сельской округи Ольвии — Куцуруб I, в пределах основного ядра которого были обнаружены остатки, по сути дела, практически всех до сих пор известных вариантов «архаичных» структур Северо-Западного Причерноморья второй половины IV — начала III в. до н. э. (см.: Марченко, Соловьев. 19886. С. 52-53).
Третьим и последним компонентом культуры оседлого населения эпохи реколонизации, способным в принципе подтвердить факт самого прямого участия туземцев в создании стационарных поселений в окрестностях греческих апойкий Северо-Западного Причерноморья, являются данные местных некрополей (см.: Ebert. 1913. S. 23 ff.; Мелюкова. 1975. С. 108-151; Снытко. 1986; 1990; Буйських, Ηϊκϊτιη. 1988; Былкова. 1989; Диамант. 1989). Несмотря на крайнюю скудость и по большей части неразработанность материалов могильников, равно как и чрезвычайную сложность надежной этнической атрибуции подобных памятников в условиях «пограничья», есть веские основания полагать все же достаточно высокую степень обусловленности формирования облика погребальной обрядности сельских жителей этого района не только от воздействия на религиозные воззрения поселенцев со стороны собственно эллинской культуры, но и культуры варваров хинтерланда — прежде всего номадов степной зоны. Нельзя не видеть, к примеру, что лишь с появлением новой волны кочевников в регионе в начале V в. и постепенным усилением военно-политического контроля последних над своими южными соседями в некрополе Ольвии и на периферии города, в частности, ко второй половине названного столетия практически полностью выходят из употребления четырехугольные ямы с деревянными конструкциями лесостепного облика и начинают получать распространение совершенно иные, ранее почти неизвестные в Северном Причерноморье, но зато, по-видимому, связанные с пришельцами типы могильных сооружений в виде ям с подбоем и катакомбы (ср. Мурзин. 1990. С. 31-33). Наличие же в целом ряде подбойных и катакомбных погребений следов положения с умершим заупокойной (жертвенной) пищи животного происхождения, ножей, оружия скифского типа, а иногда и лепной керамики уже сейчас, т. е. до проведения дополнительных исследований, дает принципиальную возможность рассматривать это воздействие, хотя бы и отчасти, в неразрывной связи с постоянным присутствием в пределах зон расселения оседлых жителей Нижнего Побужья и Поднестровья IV — первой трети III в. до н. э. самих варваров.
Какими же, однако, путями шло формирование туземной части сельского населения периферийных районов Северо-Западного Понта интересующего нас времени? Совершенно очевидно, что при полном отсутствии кон
128
кретных сообщений письменных и эпиграфических памятников одни только археологические материалы не в состоянии дать однозначного ответа на этот важнейший вопрос проблемы греко-варварских взаимоотношений. Именно поэтому нам, как и ранее (см. выше), остается лишь высказать на сей счет несколько более или менее оправданных предположений.
Первое, на что, быть может, необходимо обратить самое серьезное внимание в данной связи, — на синхронность исчезновения Ольвийского предградья с началом второго этапа заселения берегов Днепро-Бугского лимана. Напомним также, что это селище за пределами городских стен было в свое время основано скорее всего какой-то группой зависимого от эллинов, главным образом варварского по своему происхождению населения, призванного снабжать гражданский коллектив ольвиополитов продуктами земледелия. Нельзя ли предположить, таким образом, что греки при первых же благоприятных возможностях использовали жителей предградья в процессе реколонизации аграрных территорий Нижнего Побужья (ср. Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 149)?
Впрочем, гораздо более очевидным представляется другое — отсутствие достаточно большого количества зависимых туземцев, имевшихся в распоряжении эллинских общин Северо-Западного Понта перед очередной «реорганизацией» своей хоры, для проведения такого мероприятия в жизнь в сколь-либо значительных масштабах. В силу данного обстоятельств должны были существовать и иные пути привлечения необходимой рабочей силы, например: покупка военнопленных у номадов или же переселение какой-то части земледельцев и скотоводов на договорной основе из числа оседлых жителей лесостепной зоны региона. Не случайно поэтому, быть может, отдельные комплексы Нижнего Побужья — поселение Козырка 12, в частности, в своей структуре содержат элементы бытовой сферы культуры, явно указывающие на их генетическую связь с местной традицией жителей именно лесостепных районов Северного Причерноморья (Головачева, Марченко, Рогов, Соловьев. 1991. С. 71). Однако важнейшим и, надо полагать, далеко не во всех случаях напрямую связанным только с одной заинтересованностью греков источником формирования варварской части населения «пограничья» должна была стать, скорее всего, все убыстряющаяся во времени седентаризация кочевников, наиболее яркое свидетельство которой в виде остатков целой серии стационарных селищ IV — первой трети III в. до н. э. исследователи фиксируют ныне как раз в районе Нижнего Поднепровья (см., например: Гаврилюк. 1989. С. 199; Былкова. 1990; 1999).
Последнее, на чем необходимо остановить самое пристальное внимание в связи с рассматриваемым вопросом, — выяснение социально-правового статуса туземцев Нижнего Побужья и Поднестровья. К сожалению, имеющихся в нашем распоряжении археологических материалов явно недоста
129
точно для сколь-либо удовлетворительного разрешения этой задачи. Они в лучшем случае лишь позволяют предполагать какую-то степень зависимости от греков определенной части гетерогенного местного населения многочисленных аграрных селищ, возникших в процессе реколонизации окрестностей эллинских центров Северо-Западного Причерноморья. Единственным реальным выходом на столь желаемую в данный момент историческую конкретику может, по-видимому, стать только прямое сообщение на сей счет античной литературной традиции или эпиграфики. И такое сообщение, как кажется, есть. Коротко рассмотрим его.
3.3. Ойкеты декрета в честь Протогена
Одним из наименее разработанных аспектов социально-экономической истории греческих полисов Северо-Западного Причерноморья IV — первой трети III в. до н. э. является вопрос об их зависимом земледельческом населении. Заметим сразу, что обычно именно к этой категории жителей сельских территорий интересующей нас части Понта относят только так называемых миксэллинов знаменитого декрета ольвиополитов в честь Протогена (IPE, I2, 32в, 20).1 При этом, как известно, миксэллины рассматриваются современными исследователями в духе идей Н. В. Шафранской (1956), а именно: либо в качестве неполноправной группы эмигрантов (метеков) из Средиземноморья, «которую ольвиополиты использовали в своих военных отрядах» (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 148-149), либо, что представляется более сбалансированным, как «зависимое военноземледельческое население типа клерухов, катеков или периэков, посаженное некогда для обработки ольвийской хоры и охраны границ полиса» (Виноградов Ю. Г. 1989. С. 183. Примеч. 18; ср. Карышковский, Клейман. 1985. С. 74; Снытко. 1994. С. 177).
К сказанному необходимо дабавить, что ни тот, ни другой варианты данной трактовки полностью не исключают, по-видимому, и какого-то участия аборигенов в процессе формирования именно этой категории жителей сельских районов Нижнего Побужья. Более того, на поверку может статься, что такое участие в действительности было даже более значительным, нежели это предполагается ныне. Во всяком случае, так называемые коллективные усадьбы раннеэллинистического времени, появление которых специалисты чаще всего приписывают деятельности миксэллинов, содержат в своем ке
1 Еще одно упоминание о миксэллинах содержится, видимо, в тексте декрета оль виополитов в честь Антестерия, датированного Ю. Г. Виноградовым третьей четвер тью III в. до н. э. (Виноградов Ю. Г. 1984; 1989. С. 178; ср. Яйленко. 19906. С. 273-274. Примеч. 69).
130
рамическом комплексе существенно больший процент лепной посуды, чем другие типы аграрных поселений в окрестностях Ольвии (Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 151 ). Со своей стороны отметим также наличие в составе лепной посуды именно этой группы памятников особенно заметного числа кратерообразных сосудов — «ваз» на высокой ножке (см.: Рубан. 1980. С. 287-288; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 134), имитирующих обычные походные котлы скифов-кочевников, что, быть может, наряду с прочим является не только свидетельством участия варваров в сложении бытовой сферы культуры строителей коллективных усадеб, но и косвенно указывает на вполне специфичный — военизированный в своей основе, образ жизни их обитателей.
Вместе с тем, говоря о зависимых варварах, неизмеримо более пристального внимания, нежели миксэллины, заслуживает, на наш взгляд, еще один, ныне почти забытый персонаж названного декрета — вся ойкетия Ольвии (IPE, I2, 32в, 20), подкупленная, совращенная или, как полагал В. В. Латышев (1887. С. 97. Примеч. 6), просто находившаяся в изменническом состоянии ума в канун военного нападения на город галатов и их союзников скиров.
К настоящему времени, как ни странно, имеются лишь две серьезные разработки этого сюжета, созданные к тому же еще в 50-х гг. нашего столетия (см.: Блаватский. 1953. С. 194-195; 1954а. С. 39-40; Pippidi. 1958; 1959). С тех пор, как кажется, ни один из исследователей больше не обращался специально к выяснению реального исторического наполнения термина ΤΗΝ ΟΙΚΕΤΕΙΑΝ ΑΠΑΣΑΝ знаменитого декрета. В литературе фиксируются лишь отдельные замечания касательно возможной формы выступления ойкетии, не имеющие самостоятельного значения (см., например: Гайдукевич. 1955. С. 54; Парович-Пешикан. 1974. С. 156).
В чем же суть упомянутых разработок? По мнению В. Д. Блаватского, речь в 20-й строке псефизмы идет об одном из первых крупных движений рабов в Северном Причерноморье (1954а. С. 39). Поскольку-де рабы фигурируют в тексте как Η ΟΙΚΕΤΕΙΑ в них, якобы следует видеть по-преимуществу категорию домашних городских рабов-слуг. Такая трактовка, как полагал исследователь, находит свое подтверждение и в отсутствии у Ольвии III в. до н. э. сколь-нибудь значительной собственной сельскохозяйственной территории (Блаватский. 1953. С. 51-53,194-195). В силу этого, а также в силу относительно небольших размеров самой Ольвии, количество рабов, участвовавших во враждебном ольвиополитам выступлении, не могло быть большим (Блаватский. 1953. С. 194-195). Таким образом, заключает автор разработки, характер этого первого движения был сравнительно пассивным: совращенные галатами и скирами, ольвийские ойкеты, подобно рабам из Лаврионских рудников Аттики времен Пелопоннесской войны, массами бежали от своих господ к их врагам (Блаватский. 1954а. С. 40).
131
Совершенно с иных позиций к объяснению этого же термина подошел Д. М. Пиппиди, упорно отрицавший саму возможность сколь-либо широкого развития рабовладения в сельском хозяйстве припонтийских греческих городов (см. также: Pippidi. 1961. S. 99-100). Уже одна только неосуществимость фактического контроля над сельскими покупными рабами в условиях Причерноморья заставляет, с его точки зрения, предполагать в ойкетии декрета род зависимого, автохтонного по своему происхождению населения Ольвии, жившего и работавшего на хоре этого полиса.
Какую же из двух ныне существующих концепций предпочесть? Начнем с анализа положений наиболее развернутой из них и, как кажется, наиболее распространенной, — концепции В. Д. Блаватского.
Первое, что сразу же обращает на себя внимание, — ошибочность мнения, будто Ольвия в течение всего III в. не обладала сколь-либо основательной собственной аграрной базой. Разумеется, как ранее, так и сейчас, исследователи истории этого города в силу отсутствия соответствующих письменных источников не имеют возможности достаточно точно определить границы его хоры, и в данном вопросе все еще существует значительный разнобой в оценках (см., например: Зуц. 1969; Отрешко. 1979; Денисова-Пругло. 1979). Однако, как кажется, это в нашем случае и не суть важно. Существенно иное — накопленные ныне историко-археологические материалы однозначно свидетельствуют в пользу самой энергичной и, совсем не исключено, непосредственной эксплуатации Ольвийским полисом в первой трети указанного столетия сельскохозяйственных ресурсов весьма обширной даже по современным меркам территории, включавшей в себя прибрежные районы Николаевской, Херсонской областей от г. Николаева на севере до с. Станислав и Березанско-Сосицкого лимана на юго-востоке и юго-западе.1 Не менее существенным оказывается и то, что количество открытых в очерченном регионе аграрных поселений раннеэллинистического времени, исторически, экономически и, весьма вероятно, политически связанных с Ольвией, не может не быть оценено при любых сравнениях как весьма значительное (см. выше). Таким образом, весьма значительным, надо думать, мог быть и удельный вес самодеятельной части населения Ольвийского государства, так или иначе занятого в сфере сельскохозяйственного производства.
Весьма спорным представляется и другое положение концепции, определенно относящей ойкетию декрета к категории домашних городских рабов-слуг. Такое толкование ольвийского H OIKETEIA неоправданно одно
1 Заметим также, что, в последнее время стало формироваться мнение, согласно которому эта территория была значительно больше и на юго-западе, к примеру, доходила до района современной Одессы (см., например: Диамант. 1978. С. 144; Рубан. 1978; 1988б. С. 18).
132
сторонне. Как показывают результаты целой серии исследований, реальное смысловое наполнение близкого ей по смыслу ΟΙΚΕΤΗΣ существенно шире и не ограничивалось значением, на которое ссылался В. Д. Блаватский (см., например: Струве. 1933. С. 369сл.; Ленцман. 1951. С. 54-55; Амусин. 1952. С. 62-66; Фролов. 1956. С. 76-77; Казакевич. 1958; Willets. 1959. Р. 496-497; Колобова. 1963; Gschnitzer. 1963; Блаватская, Голубцова, Павловская. 1969). Нет нужды сейчас специально останавливаться на чрезвычайно подвижной семантике этого термина, отметим лишь принципиальную возможность его трактовки в смысле сельскохозяйственные рабы или социально зависимое от эллинов население, проживающее на сельскохозяйственной территории греческого государства, в данном случае — Ольвийского полиса. Существенно подчеркнуть также, что хотя такое понимание термина и ставит на повестку дня вопрос о форме эксплуатации ойкетов в сельском хозяйстве ольвиополитов, тесно связанный с более общим вопросом — о характере землепользования в Ольвийском государстве раннеэллинистического времени, оно отнюдь не приближает нас к его разрешению, поскольку даже прямая связь ойкетов с ойкосом не обязательно свидетельствует в пользу частной собственности на эту рабочую силу. Имеется немало примеров, когда ойкетами называли лиц, живших в своих домах и обрабатывавших земельные участки, на которых сидели их отцы и даже деды (см.: Голубцова. 1969. С. 146). Само собой разумеется, что и в этих случаях речь идет о хозяйствах, расположенных на территории античных государств.
Наконец, последнее — явная некорректность той единственной аналогии, с помощью которой делается попытка раскрыть ход одного из первых «выступлений» рабов в Северном Причерноморье. Указанная аналогия не может не вызвать ряд недоуменных вопросов типа: как и к кому, собственно говоря, могла бежать массами городская прислуга Ольвии? Следует помнить, что галаты и скиры лишь только еще собирались зимой напасть на город. Они отнюдь не находились во время конструируемого бегства ойкетов в пределах владений своих противников, как это было в случае с пелопоннесцами. Более того, есть основания полагать, что территория обитания галатов, как, впрочем, и их союзников скиров, находилась на весьма значительном удалении от ольвийской хоры, вероятнее всего за Дунаем, и на пути ее достижения существовало множество труднопреодолимых препятствий, в том числе в виде врагов галатов — савдаратов, фисаматов и скифов (Мачинский. 1973. С. 53-54).
Но дело не только в этом. Серьезные сомнения вызывает сама возможность какого-либо восстания, возмущения или просто пассивного выступления именно городских рабов против своих господ, хотя бы и пребывавших в состоянии крайней растерянности перед лицом смертельной опасности. Конечно, argumentum ex silentio non est argumetum, но все же нельзя не об-
133
ратить внимания на обескураживающее отсутствие в литературной традиции, освещающей события античной истории раннеэллинистического времени, положительных данных, свидетельствующих в пользу возможности такого рода движений. Едва ли не все и, надо заметить, довольно многочисленные случаи выступления ойкетов в качестве реальной общественной силы четко связываются с сельскохозяйственными рабами или какими-то конкретными группами автохтонного зависимого населения, обычно работающими за пределами оборонительных стен города на хоре. Не является исключением из этого правила и привлеченная аналогия.
Прежде чем оценить степень предпочтительности точки зрения Д. М. Пиппиди на ольвийскую ойкетию, необходимо попытаться установить, с каким конкретно периодом истории Ольвии должно быть сопоставлено интересующее нас событие. Желательность такой синхронизации очевидна. Вместе с тем следует признать, что возможности жесткой хронологической увязки ограничены и дискуссионны. И все-таки они существуют. Это, во-первых, дата создания самого декрета. На сей счет, как известно, имеется несколько различных точек зрения (см.: Латышев. 1887. С. 66-86; Книпович. 1966; Каришковський. 1968; Рубан. 1985. С. 43-44; Виноградов Ю. Г. 1989. С. 181-182. Примеч. 16). Какую же из ныне существующих датировок предпочесть? По-видимому, ту, которая наиболее непротиворечиво учитывает данные палеографического и исторического анализов текста псефизмы. С этих позиций самой приемлемой сейчас кажется вторая половина или даже третья четверть III в. до н. э., т. е. время, позднее которого теряются реальные следы деятельности коллегии Семи — одного из главных инициаторов издания декрета (Карышковский. 1976).
Итак, третья четверть III в. Это, разумеется, только исходная дата. Она дает нам terminus ante quem многочисленных и, несомненно, охватывающих значительный промежуток времени событий, изложенных в декрете. Terminus post quem для них нам дают уже независимые материалы археологии, нумизматики и эпиграфики, однозначно свидетельствующие в пользу полного отсутствия в первой трети указанного столетия каких-либо следов серьезных негативных явлений в экономической, социальной и военно-политической жизни Ольвийского полиса.
Но это еще не все. Имеются дополнительные соображения, позволяющие заметно конкретизировать искомый отрезок времени. В их числе в первую очередь назовем вероятность отождествления галатов декрета с галлами-кельтами-галатами нарративных источников, создавшими в 279 г. на Геме так называемое государство в Тиле, длительное время тревожившее своими набегами греческие города Левого Понта и варварские племена Фракии. Заметим также, кстати, что именно с этого времени, согласно новейшим датировкам археологических материалов Латена В2а и В2б, в полной
134
мере совпадает и период массового распространения кельтских импортов в Скифии к востоку от Карпат (Еременко, Зуев. 1989; Щукин. 1989). Существенным в данном случае является и то, что период экспансионистской политики галатов обрывается где-то в середине III в., хотя их общественно-политическое образование, как известно, гибнет под ударами гетов только около 213-212 гг.
Наиболее важным, однако, принципиальным решением вопроса о синхронизации оказывается редчайшая возможность едва ли не прямого сопоставления информации, срдержащейся в декрете в честь Протогена, с фактами археологии. Все дело в том, что упоминание миксэллинов числом не менее 1500 безотносительно к их интерпретации заставляет думать, что речь идет о времени, когда в Нижнем Побужье или где-то поблизости от него, на границе ольвийской хоры, функционировало одно очень крупное либо несколько относительно небольших стационарных поселений — тех же коллективных усадеб, к примеру (см.: Виноградов Ю. Г. 1989. С. 183. Примеч. 18), в пределах которых только и могли проживать вышеозначенные миксэллины.
Вместе с тем, как установлено ныне археологическими исследованиями, практически все известные нам сельскохозяйственные и торгово-ремесленные поселения степной зоны Северного Причерноморья от Дона до Днестра прекращают свое существование не позднее начала второй трети III в. (см., например: Доманский, Марченко. 1980. С. 38; Щеглов. 1985. С. 191-192; Виноградов, Щеглов. 1990. С. 361-362; ср.: Рубан. 1985. С. 43; 19886. С. 19-20; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 100; Яйленко. 1990б. С. 272; Снытко. 1994. С. 177;Билкова. 1999. С. 12). Тем самым появляется возможность сравнительно жесткой хронологической увязки интересующего нас факта с финальной стадией существования у Ольвии раннеэллинистического времени собственной обширной сельскохозяйственной территории. Нельзя не видеть, таким образом, что данное заключение заметно смещает terminus ante quem события, предельно сужая время, в течение которого только и могло возникнуть «изменническое» настроение умов у ольвийской ойкетии.
Следующий основной этап нашей работы — определение конкретного содержания самого термина Η OIKETEIA но, разумеется, не вообще — такая работа, как уже отмечалось выше, в значительной мере проделана, а применительно к данному случаю.
В силу отсутствия свидетельств о сколько-нибудь существенных выступлениях городских рабов-слуг в социальной истории античного мира раннеэллинистического времени и наличия таких данных для различных групп зависимого населения, в том числе и ойкетов, живших и работавших на своих господ за пределами городских стен, нам остается, как кажется, лишь вы
135
явить следы пребывания таких зависимых в составе жителей аграрных поселений округи Ольвии первой трети III в. до н. э.
Возвращаясь теперь к точке зрения Д. М. Пиппиди, напомним, что в теоретическом плане на сложный в социально-правовом отношении состав жителей хоры Ольвии, включавший в себя помимо полноценных граждан полиса и неполноценных греков еще и некоторое количество местного зависимого населения, в том числе и рабов, указывалось уже не раз (см., например: Зуц. 1975. С. 45-46; Рубан. 1988б. С. 19; Крыжицкий, Буйских, Бураков, Отрешко. 1989. С. 146-150). Дело теперь за соответствующими археологическими реалиями. И они, как было установлено выше, в результате анализа материалов лепной керамики, строительных комплексов и отчасти данных погребального обряда могильников, есть и вполне определенно указывают на присутствие значительного числа разноэтничных варваров в составе жителей аграрных поселений, расположенных в окрестностях греческих центров Северо-Западного Причерноморья раннеэллинистического времени.
Кем же были эти представители аборигенного мира? Какое место они занимали в иерархичной социально-экономической структуре Ольвийского государства? Вправе ли мы, наконец, включать их хотя бы отчасти в ойкетию Ольвии? Прямых ответов на эти принципиальные вопросы одни только археологические источники дать, естественно, не могут. В силу этого нам придется удовлетвориться пока вероятностным решением, основанным на следующих допущениях и констатациях.
1. Поскольку прямая культурная, экономическая и историческая связь аграрных поселений Нижнего Побужья раннеэллинистического времени с Ольвией сомнений не вызывает, поскольку также основным видом деятельности жителей этих многочисленных поселений являлось производство сельскохозяйственной продукции, можно думать, что именно в этой сфере экономики Ольвийского полиса была занята и основная масса осевших там варваров.
2. Поскольку материальная культура поселений Нижнего Побужья раннеэллинистического времени, но особенно данные эпиграфики, нумизматики и просопографии однозначно свидетельствуют в пользу относительной этнической и даже культурной целостности и относительной замкнутости эллинской общины этого района, следует думать, что исторически вполне оправданной формой отношений между автаркичным Ольвийским полисом, с одной стороны, и аборигенной частью жителей его хоры, с другой, являлось отношение социальной зависимости.
3. Поскольку греческий термин H OIKETEIA по своей природе есть прежде всего не что иное, как просто определение зависимости весьма широкого диапазона, поскольку, наконец, ойкетия декрета четко связывается в самом тексте с хорой (страной), нет никаких видимых препятствий тому,
136
чтобы зависимых разноэтничных варваров сельских поселений Нижнего Побужья отнести именно к этой категории населения Ольвийского государства III в. до н. э.
Вот, пожалуй, и все, что касается возможности решения поставленных выше вопросов. В заключение следует высказать одно-два соображения общего порядка относительно самого характера «выступления» ольвийской ойкетии. Главное, на что совершенно обязательно следует обратить внимание в данной связи, — на отсутствие видимого действия. Составитель декрета лишь констатирует состояние враждебности зависимого населения хоры по отношению к ольвиополитам, а отнюдь не его реализацию. Проявилась ли эта враждебность в конкретных действиях при нападении галатов и скиров, как это, например, произошло в 278 г. в сходных условиях на хоре Приены (Голубцова. 1972. С. 56), остается совершенно неизвестным. Совершенно неизвестным для нас, впрочем, остается и другое — осуществилось ли это нападение вообще.1
Следующее, что сразу же бросается в глаза, — тривиальность сообщенного в декрете факта. Изменническое состояние умов ольвийской ойкетии по существу ничем не отличалось от настроений, широко распространенных в это и более раннее время в среде наиболее жестко эксплуатируемых групп зависимого населения античного общества. Такое состояние отнюдь не обязательно являлось следствием специального совращения или тем более подкупа со стороны врагов, оно вполне естественным образом вырабатывалось в процессе повседневной социально-экономической практики того времени.
Гораздо интересней во всем этом, быть может, другое, а именно: сама возможность проявления со стороны зависимой группы населения Нижнего Побужья явной враждебности по отношению к Ольвии в тот самый момент, когда непосредственная опасность существованию города еще отсутствовала и у ольвиополитов, как кажется, имелось достаточно времени для обуздания непокорных. Весьма существенно, быть может, и другое — откровенно изменническим настроением в этой ситуации оказалась охвачена вся ольвийская ойкетия, именно вся. Что это — особое словоупотребление, стиль составителя декрета, случайность? Вряд ли. Такого пренебрежения своим долгом перед хозяевами не могли себе позволить разобщенные домашние рабы-слуги. Отсюда вопрос — не является ли только что указанное обстоятельство косвенным свидетельством наличия у зависимого автохтонного населения хоры Ольвии рода организации?
1 Гибель аграрных поселений Нижнего Побужья в начале второй трети III в. следует рассматривать скорее как результат коренного изменения военно-политической обстановки во всем Северном Причерноморье, а не как следствие одноразового нападения галатов и скиров (ср., например: Крыжицкий, Бураков, Буйских, Отрешко, Рубан. 1980. С. 11-12; Рубан. 19886. С. 19).
Подготовлено по изданию:
Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху / отв. ред. К. К. Марченко. — СПб. : Алетейя, 2005. — 463 с. ; ил. — (Серия «Античная библиотека. Исследования»).ISBN 5-89329-800-0
© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005
© «Алетейя. Историческая книга», 2005