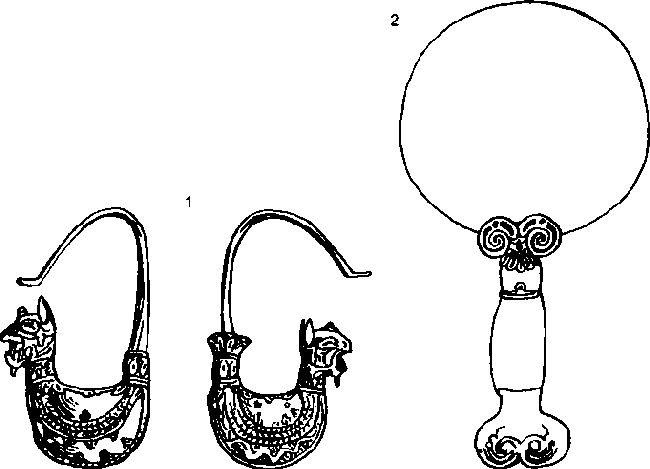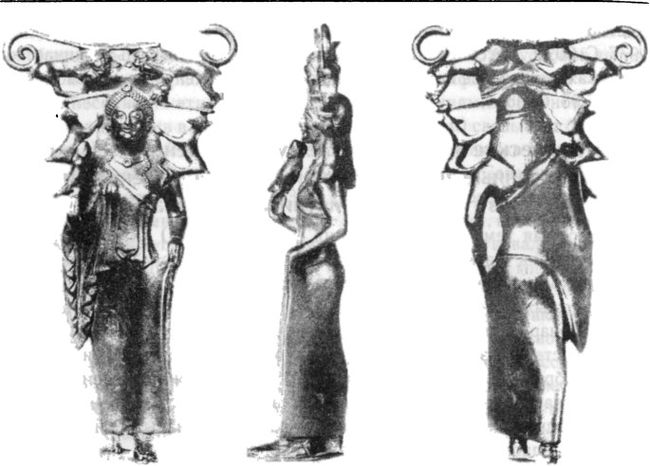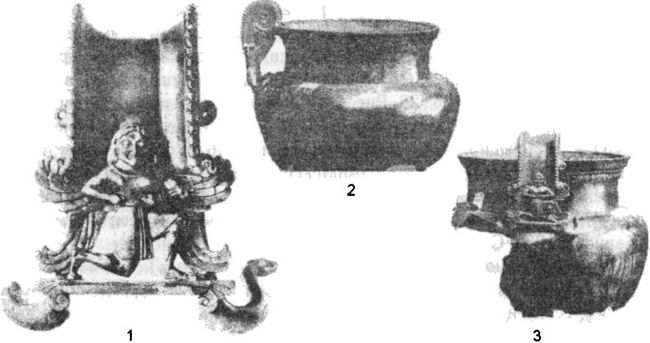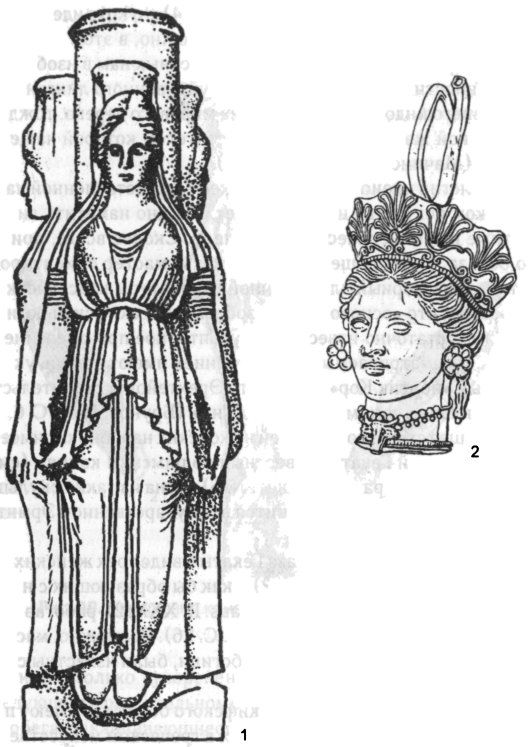297
Греческое искусство и искусство Европейской Скифии в VII-IV вв. до н. э.
- 1. Задачи исследования.297
- 2. Краткая история изучения проблемы греко-варварских взаимодействий в сфере искусства..299
- 3. Хронологические рамки .......306
- 4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.309
- 5. Вторая четверть — конец V в. до н.э..340
- 6. III в. до н.э. — эпоха расцвета греко-скифской торевтики.....352
- 7. Заключение.......397
1. Задачи исследования
Зарождение и развитие скифского искусства — яркий и самобытный процесс. С другой стороны (и это не вызывает сомнений), с момента своего зарождения и на протяжении всей скифской эпохи эволюция скифского искусства проходила при сильном воздействии различных инокультурных художественных традиций.
В течение достаточно длительного времени, примерно с середины VII в. по конец IV — начало III в. до н. э. Европейская Скифия воспринимала целый комплекс «греческих» импульсов, в том числе и культурных. Одним из результатов этих культурных взаимодействий можно считать и определенные инновации в области скифского искусства, фиксируемые на протяжении всей эпохи.
Не претендуя на полное освещение этой сложной и интересной проблемы — взаимодействия искусства греческого и искусства варварского, — которая, вне всякого сомнения, будет волновать еще многие поколения ученых, мы все же сочли необходимым уделить ей внимание в последней части книги, построенной, прежде всего, на осмыслении археологических источников, в которых нашли свое отражение сложные процессы взаимодействия греческой культуры и культур туземных «народов», происходившие на территории Северного Причерноморья. Так как результаты этих контактов проявились и в изобразительных памятниках, было бы небезынтересно, хотя бы в общих чертах, попытаться наметить и систематизировать наиболее характерные черты, сформировавшиеся и проявившиеся в скифском искусстве под влиянием искусства греческого. Мы постараемся также, на основе представлений, сложившихся в современной науке, показать взаимосвязь между интенсивностью контактов в этой сфере и этнополитической «окраской» конкретных исторических периодов, на которые подразделяется скифское время. Вместе с тем мы учитываем и возможность того, что развитие тех или иных тенденций в сфере искусства, «переломные моменты» в этом сложном и весьма специфическом процессе не всегда соответствуют тем хро
298
нологическим рамкам и «реперам», которые были предложены для скифской эпохи авторами этой книги. Совершенно очевидно, что яркие и значимые события политической истории, определяющие завершение одних исторических периодов и начало новых, не всегда сопряжены с появлением новых тенденций в развитии искусства; в ряде случаев можно отметить «устойчивость» и «живучесть» канонов предшествующего времени и, напротив, выразительные инновации, не связанные непосредственно со сменой исторических эпох.
Исследователи неоднократно отмечали изначальную сложность, заключенную в подходе к анализу художественных изделий, вышедших из рук греческих мастеров и обнаруженных в памятниках, принадлежавших скифской аристократии, либо специально изготовленных для кочевой элиты — как «разделить» греческие и скифские элементы, каким образом, например, выделить «скифское» и «нескифское» в шедеврах греко-скифской торевтики (Jacobson. 1995. Р. 2-10). Приходится признать, что каких-либо критериев не существует, исследователи более склонны полагаться в решении подобных вопросов на чутье и интуицию.
Нередко, обращаясь к сложным вопросам, связанным с выделением «эллинских» и «варварских» черт на примере конкретных элементов или образов, воплощенных в произведениях греко-скифской торевтики, исследователи буквально в каждом из них видят отражение каких-то негреческих художественных традиций, за которыми скрываются идеологические представления варваров. Однако в последнее время широкое распространение получила и тенденция рассматривать многие известные произведения исключительно как результат развития греческого искусства в одной из периферийных областей античного мира. Несомненно, подобный подход представляется логичным и вполне может иметь место при исследовании этого круга древностей.
Совершенно естественно, что греческие мастера, создавшие изделия, обнаруженные в варварских комплексах Северного Причерноморья, работали в русле изобразительных канонов и традиций античного искусства. Однако при таком понимании имеющихся в нашем распоряжении источников происходит своего рода сознательная «нивелировка» «местных» черт и особенностей в произведениях, созданных греками соответственно представлениям аристократической верхушки варварского общества.
Очевидно, для того, чтобы попытаться выявить эти «варварские» северопричерноморские особенности в декоре имеющихся в нашем распоряжении древностей, следует сопоставить их с синхронными произведениями, известными в греческом мире. По-видимому, логично будет предположить, что те элементы декора, образы и композиции северопричерноморских вещей, которые легко находят аналогии в круге греческих памятников, следует рас
299
сматривать в «русле развития периферийного античного искусства». Напротив, те элементы, типы и образы, для которых поиск аналогий затруднителен, очевидно, должны привлекать наше особое внимание, так как именно в круге подобных памятников и следует искать изделия, в которых наиболее полно отразились свойственные скифской аристократии «представления о прекрасном», воплощенные руками мастеров — как греческих, так и «местных».
2. Краткая история изучения проблемы грековарварских взаимодействий в сфере искусства
Проблема взаимодействия на территории Северного Причерноморья искусства греческого и искусства скифского была поставлена в отечественной науке еще во второй половине XIX столетия. Пожалуй, первым ученым, изложившим концепцию развития скифского искусства под определяющим воздействием искусства греческого, был Л. Стефани, показавший результат этого процесса на примере целого ряда произведений греко-скифской торевтики (Стефани. 1865; 1866). Эта концепция позднее получила поддержку в работах И. Е. Забелина ( 1876. С. 646) и А. С. Лаппо-Данилевского (1887). Последний в монографии «Скифские древности» изложил стройную систему взглядов, согласно которой появление первых греческих колоний на берегах Понта в корне изменило характер культурного развития скифского общества; особое место в греко-скифоких культурных контактах этот исследователь отводил Ольвии в устье Южного Буга (1887. С. 501, 512).
Отметим также изданные в 1889 г. в серии «Русские древности в памятниках искусства» под редакцией И. И. Толстого и Η. П. Кондакова «Классические древности Южной России» и «Древности скифо-сарматские». Эти издания, кроме прекрасно выполненных рисунков, содержали подробные и точные описания погребальных памятников — греческих гробниц и скифских курганов — и их инвентаря. При описании конкретных комплексов авторы стремились разделить античные и варварские древности, выявить типичные для местного погребального обряда черты. По их мнению, соприкосновение с античной культурой иногда помогало выявить «варварский характер» тех или иных сугубо местных сюжетов; так, например, специфика такого яркого памятника, как Куль-Оба раскрывается «благодаря именно услугам греческого искусства, умевшего в ясных пластических образах и в условных эмблемах охватить и выразить туманную мысль варвара. При этом соприкосновении возникает у варвара горделивое сознание своих национальных особенностей, которые он и желает затем видеть точно воспроизведенными искусством» (Толстой, Кондаков. 1889. Вып. 2. С. 85).
Концепцию определяющей «прогрессивной» роли греческого искусства в становлении и развитии искусства северопричерномороких скифов в на-
300
чале прошлого столетия разрабатывал Б. В. Фармаковский. В работе «Архаический период на юге России» этот исследователь писал, что «стилизация звериных образов, которую мы наблюдаем теперь (то есть после появления греческих поселений. — М. В.) в скифском искусстве, настолько характерна, что не оставляет никаких сомнений, что этот скифский звериный стиль должен быть тесно связан с архаическим искусством ионийских колоний юга России» (1914. С. 21 ). Поставив вопрос о «зверином стиле» ионийских греков и его происхождении, Б. В. Фармаковский полагал, что с появлением греческих колонистов на берегах Черного моря «в Скифии появляется новая обработка мотивов звериного стиля, совершенно такая, какую нам представляют находки в ионийских колониях и вообще в ионийском искусстве. Ионийцы убогие элементы возвели, так оказать, в перл создания и положили в Скифии основание для действительно настоящего оригинального стиля» (1914. С. 22-23).
Совершенно иной подход к пониманию сущности и процесса эволюции скифского искусства, а также его взаимодействия с искусством греческим был разработан знаменитым исследователем южнорусских древностей М. И. Ростовцевым, опубликовавшим в начале XX века ряд блестящих исследований по истории, культуре и искусству античных центров Северного Причерноморья и их варварской периферии (1913; 1914; 1914а; 1918; 1922; 1925). Признавая в целом воздействие греческого искусства на искусство Скифии, этот ученый справедливо считал, что воздействием ионийского искусства нельзя объяснить появление и эволюцию основных мотивов древнейшего этапа скифского звериного стиля М. И. Ростовцев обратил внимание на резкие отличия «греческого малоазийского стиля», заключавшиеся в технике художественной трактовки образов, однако подчеркнул доминирующую роль греческих элементов в инвентаре богатых скифских погребений (1925. С. 338).
М. И. Ростовцев первым обратил внимание на одновременный расцвет искусства и культуры Боспорского государства и Скифии на протяжении IV в. до н. э. (1925. С. 457-458). Ему принадлежит и разрабатывавшаяся позднее гипотеза об античных художественных мастерских Боспора, производивших изделия из драгоценных металлов, специально предназначавшихся скифским и меотским аристократам.
Говоря о проблеме взаимодействия греческого и скифского искусства, нельзя не остановиться кратко на представлениях Э. Миннза. Этот исследователь (в отличие от Б. В. Фармаковского, преувеличивавшего роль «греческого импульса») писал, что греческое ионийское искусство именно потому так легко было воспринято местным населением Северного Причерноморья, что само несло в себе что-то почти варварское. По Э. Миннзу, самобытное скифское искусство в своем развитии было подвержено влиянию искус
301
ства держав Переднего Востока, а также греческого мира (Ионии, а позже Аттики) (Minnz. 1913. Р. 263). В специальной работе, посвященной скифскому искусству на территории Евразии, Э. Миннз пришел к выводу, что на Востоке искусство Скифии подверглось «портящему» воздействию искусства Древнего Китая, а на Западе — воздействию искусства Древней Греции, которое, в конечном счете, сыграло ту же роль (Minnz. 1942. Р. 31 -32).
Важнейшим событием в истории изучения искусства скифов был выход в свет известного исследования Г. И. Боровки, изданного в 1928 г. в Лондоне. Эта работа являлась первой книгой, посвященной исключительно скифскому искусству; в своем труде автор изложил первую законченную концепцию происхождения скифского звериного стиля. Говоря о роли греческого искусства в его сложении и развитии, Г. И. Боровка писал, что, хотя греческое искусство по своим художественным достижениям не имело себе равных, оно было чуждым звериному стилю и не соответствовало его изобразительной системе (Borovka. 1928. Р. 67). Лишь на протяжении архаической эпохи ионийское искусство гармонично вносило свой вклад в развитие искусства местных народов (Р. 75). В более же поздние эпохи часто создавались вещи (например, олень из Куль-Обы), в которых греческие орнаментальные мотивы и натуралистические изображения резко контрастируют с самой формой и идеей вещей и разрушают целостность композиции. Г. И. Боровка проследил также влияние античного искусства в трансформации некоторых образов звериного стиля (Р. 49-50).
В один ряд с работами конца прошлого века и двух первых десятилетий нынешнего можно поставить и выдающееся исследование К. Шефолда «Скифский звериный стиль на юге России» (Schefold. 1938). В этой работе, во многом как бы продолжающей книгу Г. И. Боровки, было положено начало системного изучения скифского звериного стиля по отдельным мотивам и сюжетам изображений. Метод, предложенный К. Шефолдом, оказался перспективным и с успехом развивается современными исследователями (см., например: Переводчикова. 1980). Изучая звериный стиль в его формальных изменениях, К. Шефолд пришел к целому ряду интересных результатов: например, выделил отдельные группы скифских погребальных комплексов, разделил их по «центрам притяжения» (по отношению к греческим колониям) и высказал много точных конкретных наблюдений (например, предпринял попытку разделить ранний и поздний комплексы Куль-Обы). Тщательный анализ предметов античной художественной торевтики, проделанный автором, представляет интерес и на современном уровне развития научных знаний. В общих чертах его концепция взаимодействия греческого и скифского искусства сводилась к следующему: хотя последнее и обладало самобытными формами, в целом его развитие полностью определялось развитием искусства греческого. Скифские заказчики,
302
для которых предназначались греческие изделия, определяли выбор формы предметов, содержание и, в значительной степени, форму изображений; создание же шедевров невозможно представить без воздействия античного искусства.
Работы К. Шефолда и Г. И. Боровки завершают, на наш взгляд, первый этап изучения взаимодействия греческого и скифского искусства. Образовавшаяся в 30-40-х гг. лакуна в истории изучения проблем, связанных с искусством Скифии, может объясняться не столько парализующим воздействием теории стадиальности, как, например, полагал К. Йеттмар (Jettmar. 1966. S. 39-40), а скорее физическим исчезновением из сферы отечественной науки исследователей, занятых разработкой этой проблематики (отъезд М. И. Ростовцева за границу, гибель Г. И. Боровки). Ярким примером отношения к трудам предшественников и их методам в эту эпоху может служить рецензия H. Н. Погребовой на упомянутую выше книгу К. Шефолда (Погребова. 1949). Отказ на долгие годы от изучения развития звериного стиля методами, разработанными в предшествующий период, породил справедливые упреки современных скифологов в том, что в искусстве звериного стиля долгое время изучался в основном лишь состав образов и композиций, а не сам стиль (Шер. 1980. С. 339).
Следующий этап в разработке круга проблем, связанных с взаимодействием греческого и скифского искусства, начался в 50-е гг. В это время появляются отдельные статьи, в которых рассматривались различные аспекты греко-варварского искусства. Отметим, в первую очередь, работу Б. Н. Гракова (1950), посвященную развитию с конца V в. до н. э. антропоморфных изображений в скифском искусстве под воздействием искусства эллинов, а также статью Д. Б. Шелова (1950), в которой появление некоторых эмблем на золотых и бронзовых монетах Боспора объясняется влиянием искусства и идеологии местных племен.
В 1953 г. вышло в свет монографическое исследование А. П. Ивановой «Искусство античных городов Северного Причерноморья». В этой книге на основе анализа памятников античных городов Северного Причерноморья (преимущественно скульптурных) автор рассматривал следы влияния искусства местных племен начиная с первой половины V в. до н. э. Наиболее сильно это влияние проявилось в искусстве Боспора в эпоху Спартокидов. Воздействие же греческого искусства на искусство местных племен, по мнению этой исследовательницы, наиболее ярко проявлялось в процессе постепенной деградации традиционных изображений греко-скифской торевтики на протяжении V-IV вв. до н. э. (С. 17; 92-93).
В 1954 и 1956 гг. были изданы блестящие работы М. И. Максимовой, содержащие тщательный художественный анализ форм и декора серебряных зеркала и ритона из знаменитых Келермесских курганов. Несмотря на то
303
что датировки этих шедевров, предложенные в работах, позже были существенно скорректированы (Кисель. 1993; 1998), работы М. И. Максимовой, отличающиеся прекрасным знанием всего круга источников и широтой подхода к изучению конкретных памятников, не утратили своего значения и по сей день представляют интерес для исследователей, занимающихся начальным периодом развития греко-варварских контактов в сфере искусства.
В 60-х гг. вышли в свет обобщающие статьи В. Д. Блаватского (1964; 1964а), были систематизированы и изданы на современном научном уровне археологические материалы, включавшие изделия греко-скифокой торевтики (Артамонов. 1966) и античные художественные вещи, обнаруженные в памятниках местного населения (Онайко. 1966; 1970).
В 1961 г. была издана статья М. И. Артамонова «Антропоморфные божества в религии скифов», где был рассмотрен и проанализирован весь круг наиболее выразительных антропоморфных памятников греко-скифской торевтики. Эта работа, продемонстрировавшая блестящее знание конкретного материала и письменных источников, глубину и широту научного подхода, наш взгляд, до сих пор остается самым значительным обобщающим исследованием, посвященным проблеме развития антропоморфных образов и их интерпетации в скифском искусстве.
Послевоенное время ознаменовалось и новыми важными археологическими открытиями в степной зоне Северного Причерноморья «царских» скифских захоронений V-IV вв. до н. э., что существенно расширило круг источников по интересующей нас проблеме. Отметим лишь важнейшие из них: в 1954 г. был исследован Мелитопольский курган (Тереножкин, Мозолевский. 1988), в 1959 — Пятибратние курганы (Шилов. 1966), в 1964 — курган у с. Ильичево (Лесков, 1968) и, наконец, в 1971 — курган «Толстая Могила» (Мозолевський. 1980).
В 70-х — начале 80-х гг. в отечественной литературе вновь появились работы, авторы которых пытались проанализировать и осмыслить в целом процесс воздействия греческого искусства на искусство северопричерноморских варваров, показать конкретные способы и пути этого процесса; предпринимаются и попытки создания периодизаций этого процесса. Предложенные в то время периодизации, естественно, отражали современные их созданию развитие представлений и степень изученности археологических источников.
К подобным исследованиям, например, принадлежит известная статья А. М. Хазанова и А. И. Шкурко «Воздействие античной культуры на культуру скифо-сарматского мира» ( 1974). Ее авторы полагали, что особенно ярко это влияние проявилось в различных категориях памятников прикладного искусства, и на основе анализа последних выделили четыре периода воздействия античной культуры на культуру и искусство варваров:
304
1 ) конец VII — VI в. до н. э.;
2) V в. до н. э.;
3) IV—III вв. до н. э.;
4) последние века до н. э. — первые века н. э. (с. 38-39).
В целом же авторы пришли к выводу об ограниченности античного воздействия на культуру степной зоны Северного Причерноморья в скифо-сарматскую эпоху. Отметим, что в предложенной ими периодизации сразу же вызывает возражения объединение IV и III вв. до н. э. в рамках одного исторического периода.
Противоположная точка зрения была наиболее четко сформулирована в работах Н. А. Онайко (1966а; 1976; 1976а; 1977). Эта исследовательница пришла к выводу о симбиозе греческого и скифского искусства, первые признаки которого, по ее мнению, видны уже в конце VII — начале VI в. до н. э. ( 1976. С. 70). Она также предложила выделить четыре этапа в истории взаимодействий греческого и скифского искусства на территории Северного Причерноморья:
1 ) VII — начало VI в. до н. э. — для этого времени характерны совместные находки предметов, украшенных в зверином стилей изделий греческих мастеров;
2) первая половина VI в. до н. э. — эпоха, когда, по мнению автора, начинается производство предметов греко-варварского стиля (к ним исследовательница относила ритон и зеркало из Келермеса);
3) вторая половина VI — начало V в. до н. э. — в это время в боспорских мастерских началось изготовление золотых обкладок скифских мечей и конской упряжи, однако в их декоре еще преобладало «механическое соединение греческих и варварских элементов»;
4) V-IV вв. до н. э. — время органического слияния греческого и варварского в искусстве Северного Причерноморья (1976а. С. 70-71).
В предложенной схеме сразу же бросается в глаза некоторая искусственность в выделении второй половины VI в. до н. э. в отдельный период. Существенные коррективы вносит и произошедшая позже передатировка некоторых «ключевых» комплексов, прежде всего передатировка вещевого комплекса Келермесских курганов, обоснованная позднее (Галанина. 1991. С. 15 сл.). Кроме того, последние разработки в области периодизации античной (Виноградов, Марченко. 1991; см. также гл. II настоящего издания) и скифской (Алексеев. 1992; 2003) истории Северного Причерноморья ставят под сомнение и возможность объединения V и IV вв. до н. э. в рамках единого периода.
Конечно, развитие искусства может не укладываться в схему исторической периодизации, однако предложенному ранее «общему пониманию» греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в целом ряде случаев
305
противоречит и анализ художественных произведений, что мы попытаемся показать в последующих разделах работы.
На протяжении трех последних десятилетий XX в. появился целый ряд работ, посвященных исследованиям в области духовной жизни и идеологии скифского общества, отраженной, в частности, и в памятниках греко-скифской торевтики. Авторы этих работ часто обращались к всестороннему изучению художественных изделий и их археологического контекста. Отметим среди подобных работ статьи и книги Д. С. Раевского (1970; 1977; 1978; 1980; 1985), статьи Д. А. Мачинского (1978; 1978а; 1998; 1998а), статьи и монографию С. С. Бессоновой ( 1977; 1982а; 1983), работы исследователей-антиковедов, посвященных особенностям религиозной жизни греческих центров Северного Причерноморья (Шауб. 1979; 1987; 1991; 1993; 1998; 1999) и развитию отдельных сюжетов в их искусстве (Савостина. 1995; 1996).
Эти работы содержат также и интересные конкретные наблюдения по интересующей нас проблеме: к некоторым из них мы обратимся ниже.
Характерной чертой трех последних десятилетий стало возвращение к исследованиям классических «царских» скифских погребений, которые были проведены ведущими специалистами — археологами и искусствоведами. Результатом этой работы стали подробные публикации вещевых комплексов таких курганов, как Мастюгинские (Манцевич. 1973), Солоха (Манцевич. 1978), Артюховский (Максимова. 1979), Курджипский (Галанина. 1980), Мелитопольский (Тереножкин, Мозолевский. 1988), Чертомлык (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991 ), Келермесские (Галанина. 1997), лесостепных курганов Приднепровья (Галанина. 1977). Была переиздана и коллекция скифских древностей, хранящихся в Эрмитаже (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986). Это дает нам возможность опираться на современные, надежные датировки целого ряда вещей и комплексов, которые не только позволяют «привязать» все рассматриваемые памятники и изображения к надежной хронологической шкале, но также в некоторых случаях имеют принципиальное значение для определения датировок важных этапов в развитии греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья.
Последние десятилетия ознаменовались выходом в свет двух монографий, посвященных скифскому искусству и основанных, прежде всего, на северопричерноморских материалах, в которых затронута, в частности, и проблема взаимодействия «греческого» и «варварского» (Schiltz. 1994; Jacobson. 1995).
Все эти публикации существенно расширили нашу источниковедческую базу, позволили скорректировать датировки, детально проанализировать обстоятельства находок отдельных древностей и т. п. Однако нельзя не обратить внимание на отсутствие крупных обобщающих работ в отечественной литературе, специально посвященных интересующей нас теме.
306
При обращении к ней остро ощущается также и неудоволетворительное состояние методического уровня — неразработанность системы понятий, позволивших бы попытаться понять и раскрыть механизм взаимодействий. Совершенно справедливо отмечается и чисто эмпирический уровень осознания термина «греко-варварское искусство», которое каждый волен понимать на интуитивном уровне. Нельзя не согласиться и с утверждением, что «...анализ изобразительных археологических источников требует специального подхода, теория и методы которого разработаны пока крайне слабо» (Шер. 1980. С. 238).
Обычно, говоря о «направленности» влияния греческого искусства на искусство Скифии, исследователи прослеживают две основных линии, по которым фиксируются результаты этого воздействия — скифский звериный стиль и «антропоморфное направление» в греко-скифской торевтике (Хазанов, Шкурко. 1974. С. 38).
Предпринимались и попытки понять «механизм» проникновения инородных элементов в искусство Скифии, например, были выдены три основные направления: 1 ) заимствования отдельных черт и стилистических приемов («стиль цитат»); 2) заимствования целостных образов; 3) заимствование композиций (Кузьмина. 1981. С. 77-78).
Возможно, добиться прогресса в разработке системы понятий и терминов в области изучения греко-варварских взаимодействий в сфере искусства в дальнейшем может помочь наметившийся сравнительно недавно прогресс в сфере методических разработок в области звериного стиля (Переводчикова. 1994; Канторович. 1994; 1997; 2002; Королькова. 1996; 1998). Из недавно вышедших работ, посвященных «антропоморфному» направлению в греко-скифской торевтике, следует упомянуть статью Е. А. Савостиной «Боспорский стиль и сюжеты Геродота в пластике Северного Причерноморья» (Савостина. 2001).
Большой интерес представляют и попытки анализа отдельных изобразительных памятников, найденных на территории Северного Причерноморья, отразившиеся, прежде всего, в публикациях Таманского рельефа со сценой сражения и изучения широкого круга проблем, связанных с этой замечательной находкой (Боспорский рельеф... 2001).
Ко многим из этих работ, а также к некоторым другим, остановиться на которых не представлялось возможности в рамках этого краткого раздела, мы будем обращаться ниже.
3. Хронологические рамки
Все исследователи единодушно признают Северное Причерноморье контактной зоной, где греческое искусство вступило во взаимодействие с ис-
307
кусством скифского мира. Однако степень интенсивности влияния греческого искусства и его роль в эволюции звериного стиля оценивались различно.
Нетрудно заметить, что в большинстве работ взаимовлияние греческого и скифского искусства рассматривалось как непрерывный процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии: после знакомства варваров с художественными произведениями греческих ремесленников в местную систему образов проникли отдельные приемы и сюжеты, свойственные античному искусству, позднее, по мере развития греко-варварских связей, эстетические и религиозные кургана потребности верхушки местного общества стали «обслуживаться» греческими мастерами, которые в своей изобразительной манере украшали парадное оружие, одежду, ритуальные предметы, конскую упряжь (см., например: Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 20- 21; 62, 89-93). To есть, несколько упрощая распространенную в литературе точку зрения, можно сказать, что непрерывное (на протяжении почти четырех столетий) воздействие античного искусства на искусство варваров привело к появлению и накоплению в процессе развития последнего целого ряда инноваций, которые с течением времени вызвали глубокие качественные изменения, наиболее ярко проявившиеся в произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э. Несомненно, имеющиеся в нашем распоряжении археологические источники дают возможность и такого подхода. Однако в последние годы были внесены существенные изменения в наши представления о непрерывном развитии Великой Скифии на протяжении всех четырех веков (Алексеев. 1992. С. 103 сл.; 2003. С. 168 сл.).
С точки зрения современного антиковедения, процесс экономических и политических взаимоотношений между греческими центрами Северного Причерноморья и варварскими племенами также нельзя рассматривать как процесс постепенного углубления и расширения этих связей с течением времени: в этих сложных контактах отчетливо выявляются как периоды интенсивных взаимодействий, так и периоды нестабильности и взаимного напряжения и, вероятно, даже разрушения (полного или частичного) сложившихся ранее систем, переориентировки политики различных греческих поселений по отношению к разным группам туземцев (Marcenko,Vinogradov. 1989). Очевидно, и процесс воздействия античного искусства на искусство Скифии VII—IV вв. до н. э. следует рассматривать как «пульсирующее» движение. Конечно, имеющиеся в нашем распоряжении письменные и археологические источники никогда не позволят реконструировать этот процесс во всем его своеобразии, однако можно попытаться выявить отдельные черты, характерные для каждого из рассматриваемых внутренних периодов.
Исходя из современных представлений об историческом развитии Европейской Скифии и античных центров Северного Причерноморья, говоря о влиянии греческого искусства на искусство туземного мира, нашедшем
308
свое отражение в обнаруженных здесь памятниках, мы будем рассматривать этот процесс на протяжении двух достаточно продолжительных исторических периодов. Нижняя граница первого, начального периода приходится приблизительно на середину VII в. до н. э.: она определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья. Концом этого периода можно условно считать рубеж первой — второй четвертей V в. до н. э., когда на основании многочисленных данных фиксируется резкий разрыв в развитии скифской культуры, возможно, вызванный глобальной сменой населения в степном регионе (Алексеев. 1991; 1992. С. 103 сл.; 1993. С. 28 сл.; 2003. С. 168 сл;). Время со второй четверти V в. до конца этого столетия, возможно, следует обозначить как особый, «переходный» этап, так как с ним связана значительная трансформация всей историко-культурной ситуации в регионе (Виноградов, Марченко. 1991. С. 151).
Согласно периодизации, разработанной с учетом динамики развития античных центров Северного Причерноморья, начало нового периода в жизни региона также соотносится с началом второй четверти этого столетия (см. II главу этой книги). Второй «основной» период, соответственно, будет охватывать следующую часть скифской эпохи, вплоть до времени утраты кочевыми скифами политического господства над территорией Северного Причерноморья, которая приблизительно приходится на рубеж IV—III вв. до н. э. (Мачинский. 1971. С. 52 сл.; Алексеев. 1998. С. 125).
IV в. до н. э. является заключительным этапом существования Великой Скифии, эпохой наиболее интенсивного воздействия античной культуры на кочевое общество Восточной Европы, периодом создания шедевров грекоскифской торевтики. Особо интенсивная работа в этом направлении фиксируется в рамках второй половины этого столетия. На протяжении этих трех периодов, выделенных на основании современных представлений о развитии исторического процесса в Северном Причерноморье античной эпохи, мы постараемся рассмотреть некоторые тенденции во взаимодействии греческого и варварского искусства.
Принятый в работе хронологический рубеж между двумя «основными» эпохами, связанными с кардинальными изменениями в искусстве Европейской Скифии, вызванными античными импульсами, приблизительно соответствует рубежу, разделяющему архаическую и классическую эпохи в истории Греции. Вместе с тем, два достаточно крупных периода, вынесенные в заглавие отдельных разделов этой главы, соответствуют двум этапам в длительной истории воздействия эллинского искусства на искусство варварского мира, выделенным еще Э. Миннзом. В течение первого из них ведущую роль играло ионийское искусство, в течение второго — аттическое (Minns. 1913. Р. 263).
309
4. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э.
Первые контакты между искусством Ионийской Греции и Скифии начались на раннем этапе существования греческих поселений Северного Причерноморья, возможно, практически одновременно с установлением древнейших экономических и политических связей (Вахтина. 1984. С. 16-17). Нижняя дата периода греко-скифских культурных взаимодействий определяется датировками находок античных художественных изделий в скифских погребальных памятниках Северного Причерноморья и Прикубанья. Расписная родосско-ионийская ойнохоя из кургана Темир-Гора относится к 40-м гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972); античная керамика конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. достаточно выразительно представлена в материалах Немировского городища в лесостепном Побужье (Вахтина. 1998). Серебряное зеркало из кургана 4/III Келермеса датируется 650-620 гг. до н. э. (Кисель. 1993); серебряный ритон из кургана 3/III датируется в пределах второй половины VII в. до н. э. Верхняя граница комплексов этой курганной группы в настоящее время определяется рубежом VII—VI вв. до н. э. (Галанина. 1997. С. 172 сл.). Таким образом, начало греко-варварских взаимодействий в сфере искусства приблизительно совпадает с началом второго периода в истории Северного Причерноморья согласно хронологии, принятой в данной книге (см. Главу II).
Как уже отмечалось, интерес верхушки туземного общества к художественным изделиям греческих мастеров проявился достаточно рано и относится ко времени появления первых греческих поселений на северных берегах Черного моря. Археологическая картина, отражающая восприятие скифским обществом достижений античного искусства, является уникальной для регионов ойкумены, вовлеченных в орбиту греческой колонизации, и ярко характеризует конкретно-историческую ситуацию, связанную с утверждением здесь новых орд кочевников и формированием местного варианта звериного стиля. Сопоставление карты греческих импортных вещей, обнаруженных в памятниках степного Побужья-Приднепровья и связанных с этой территорией в рамках единой археологической культуры Крыма и Прикубанья (Вахтина, Виноградов, Рогов. 1980), с картой греческих импортов, составленной для Северной Добруджи (Вахтина. 1993. С. 54), подчеркивает интенсивный интерес скифского населения к художественным вещам и «опережение» в распространении этих вещей на контролируемых скифами территориях. Представляется, что объяснение такому раннему и, по-видимому, достаточно естественному проникновению греческих художественных изделий в местное традиционное общество, несомненно, способствующему дальнейшему развитию контактов между античным и скиф-
310
ским искусством, можно найти в целом ряде факторов, отличавших демографическую ситуацию, сложившуюся в Северном Причерноморье в VII в. до н. э. Постараемся кратко их перечислить.
1. Общеизвестно, что кочевое общество всегда было обществом более «открытым» для восприятия инокультурных импульсов, чем общество оседлых земледельцев, так как в силу узкой специализации кочевого хозяйства постоянно испытывало необходимость в контактах с другими этносами (см., например: Владимирцов. 1934. С. 43; Артамонов. 1977. С. 7-10; Barth. 1973).
2. Это достаточно общее положение можно дополнить наблюдениями, касающимися своеобразной «открытости», свойственной скифской археологической культуре эпохи архаики. Для этого времени характерно сочетание разнокультурных предметов в рамках единых комплексов, причем эту особенность можно проследить не только для «царских» памятников (таких, как, например, Келермес и Мельгунов), но и для более скромных степных захоронений. Показательным в этом отношении является известное погребение в кургане у Цукурского лимана на Тамани, в составе инвентаря имевшего греческую ойнохою (фрагменты аналогичных сосудов были найдены при раскопках Березанского поселения), бронзовую бляху (ближайшая аналогия происходит из Забайкалья) и бронзовый топор-клевец (ближайшие аналогии известны в материалах Трахтемировского городища и Средней Европы) (Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. С. 53. Рис. 5, 27; Скорый. 1983. С. 13; Вахтина. 1993). Создается впечатление, что древнейшая скифская археологическая культура на территории Северного Причерноморья отличалась высокой степенью восприимчивости и «подпитывалась» самыми разнообразными культурными импульсами.
3. Однако эти соображения представляются явно недостаточными для объяснения начавшегося взаимодействия между искусством Греции и искусством Скифии, так как известно много примеров полного неприятия и даже отталкивания обществами-реципиентами чуждых им высокохудожественных произведений, которое иногда имело место одновременно с установлением взаимовыгодных экономических и политических связей (Шмит. 1925. С. 150). Объяснение феномену, который сложился в искусстве Северного Причерноморья в VII—VI вв. до н. э., следует, очевидно, прежде всего искать в самой природе и особенностях формирования скифского звериного стиля.
Еще М. И. Ростовцев отмечал, что искусство звериного стиля не имело корней в Восточной Европе и было принесено сюда как бы в готовом виде. Согласны с этим утверждением и другие исследователи (Артамонов. 1968; Переводчикова. 1980. С. 12 сл.). Это, конечно, не исключает наличия в ран-
311
нескифском зверином стиле отдельных элементов, которые могут быть возведены к геометрическим орнаментам, господствовавшим в регионе в предскифское время (Раевский. 1984. С. 217), что, кажется, подтверждается на примере архаических скифских материалов из Предкавказья (Махортых. 1991. С. 69 сл.).
Вопрос о месте и времени сложения скифского звериного стиля до сих пор порождает ожесточенные научные опоры между сторонниками центральноазиатской гипотезы его происхождения и защитниками идеи заимствования скифами основных элементов своего искусства из Передней Азии (об истории сложения этих двух основных концепций см.: Ильинская. 1976. С. 9 сл.; Погребова, Раевский. 1992. С. 74 сл.; Шер. 1992; Курочкин. 1989. С. 105 сл.). Однако никто из исследователей не отрицает огромного вклада передневосточного искусства в формировании северопричерноморского варианта звериного стиля (см.: Курочкин. 1984. С. 105 сл. Королькова. 2003).
Общеизвестно, что в VII в. до н. э. греческое искусство переживало период, получивший в науке название ориентализирующего. В это время связи античного искусства с искусством стран Древнего Востока были наиболее сильными; «в их скульптуре и живописи греки нашли такое же условное искусство, как их собственное геометрическое, но гораздо более реалистичное» (Boardman. 1975α. P. 40). Это восточное влияние в разных формах сказывалось в различных направлениях развития монументального и прикладного искусства греков: наиболее яркое отражение оно нашло в вазовой живописи (Schiering. 1957. S. 430). В это время в искусство Древней Г реции проникают орнаментальные мотивы, сюжеты и композиции, в том числе и некоторые фантастические персонажи (сфинкс, грифон), заимствованные с Востока. Интересно, что и в скифское искусство фантастические существа (грифон) также, по-видимому, пришли из стран Переднего Востока.
Сюжет борьбы животных был известен в греческом искусстве еще в крито-микенскую эпоху; возможно, он также сложился под ближневосточным влиянием. В VII в. до н. э. сцены «терзания» попали из Ионии в материковую Грецию (Кузьмина. 1987. С. 6-8; здесь же см. литературу). Сцены «терзания» были известны в искусстве Ассирии и стали особенно опулярны в Иране в эпоху Ахеменидов (Frankfort. 1955. Р. 231. Pl. 179В). Очевидно, в начале I тыс.до н. э. в Бактрии, Иране, Урарту, Малой Азии и Г реции был широко распространен сходный репертуар образов и композиций (Кузьмина. 1981. С. 78). Возможно, то обстоятельство, что на определенном этапе своего развития и искусство Греции, и искусство скифского звериного стиля получили сильные импульсы из одного культурного региона, облегчило во многом проблему их первых контактов на территории Восточной Европы. Еще М. И. Ростовцев отмечал, что ионийское искусство вступило в контакт
312
с искусством Скифии «не по родству духа, а по формальной близости мотивов» (1925. С. 265). И наконец, возможность взаимодействия между искусством звериного стиля и искусством греческим, вероятно, облегчалась тем, что уже в архаическую эпоху четыре основных мотива скифского звериного стиля (олень с поджатыми ногами, олень, стоящий «на цыпочках», свернувшийся кошачий хищник, головка хищной птицы или грифона) не были однородны, а распадались на локальные варианты, постоянно подвергаясь изменениям (Членова. 1993. С. 73. Рис. 11-13, 17). Таким образом, по мере разработки отдельных сюжетов звериного стиля в существующие схемы достаточно органично могли привноситься отдельные изобразительные приемы и образы античного искусства.
Круг источников, на основании которых можно говорить о начавшемся взаимодействии между греческим архаическим искусством и искусством варваров Северного Причерноморья, для этой эпохи достаточно ограничен, что дает возможность рассмотреть их в рамках данного раздела достаточно подробно. Для этой эпохи нам известны художественные изделия, происходящие из аристократических погребений степной и лесостепной зон Северного Причерноморья и Прикубанья. Эти изделия можно разделить на две категории. К первой относятся вещи, не производившиеся специально для сбыта в варварский мир Северного Причерноморья, т. н. группа «чистого импорта» по Д. С. Раевскому. Ко второй — вещи, в декоре которых можно выявить попытки приспособить вещь к определенным туземным представлениям. Рассмотрев обе группы, можно убедиться, что традиционное представление о том, что поток «чистого импорта» должен был опередить проникновение в туземный мир вещей, специально предназначавшихся для сбыта, и как бы «подготовить» как варварское общество, так и греческих ремесленников к более активному взаимодействию на следующем этапе, не находит подтверждения в имеющихся в нашем распоряжении археологических материалах. Как мы попробуем показать, эти два процесса начались практически одновременно.
Среди вещей, не предназначавшихся специально для сбыта в туземную среду Северного Причерноморья, достаточно легко выявить круг художественных изделий, которые должны были легко вписаться в контекст местной культуры. Изображения на целом ряде греческих сосудов и металлических изделий часто имели эквиваленты в системе образов звериного стиля, могли переосмысляться местным населением Северного Причерноморья на основе их собственных верований и, очевидно, охотно принимались от греческих переселенцев (Вахтина. 1989. С. 42). Это, на наш взгляд, подтверждается и находками таких предметов в погребальных памятниках и культовых комплексах варваров, так как в них мог попадать лишь строго регламентированный круг вещей.
313
4.1. Находки греческой художественной керамики в степной зоне
В качестве яркого примера такой «взаимовстречаемости» греческих и варварских художественных изделий в рамках единого комплекса может служить центральное погребение в кургане Темир-Гора близ Керчи. Это захоронение, одно из самых ранних в числе надежно датированных скифских погребений Восточной Европы, содержало родосско-ионийскую ойнохою, изготовленную в 640-630 гг. VII в. до н. э. (Копейкина. 1972. С. 156; Cook, Dupont. 1998. P. 36. Fig. 8.5), колчанный набор, в состав которого, вероятно, входили и обнаруженные украшения из кости в зверином стиле (Яковенко. 1972. С. 262 сл.). Отметим, что сюжет росписи греческого сосуда созвучен сюжетам, представленным на резной кости: тулово ойнохои украшено двумя фризами, центральными персонажами верхнего являются бык и пантера; на нижнем представлена сцена преследования зайцев собаками (рис. 26.6). Одно из «варварских» костяных украшений из Темир-Горы представляет собой подтреугольную бляшку в виде свернувшейся пантеры (рис. 26.5) — мотив, широко распространенный в памятниках скифской архаики (Ильинская. 1971 ). Второе, наиболее интересное, костяное украшение представляет собой головку длинноклювой хищной птицы или грифона, выполненную в круглой скульптуре и украшенную в характерной для скифского искусства манере «зооморфных превращений» (рис. 26.4). Э. В. Яковенко, посвятившая этому памятнику специальное исследование, насчитала 4 дополнительных изображения, среди которых — копытные травоядные животные и заяц (Яковенко. 1976. С. 237-239. Рис. 1-4).
Из кургана II у с. Филатовка Красноперекопского р-на Крымской обл. происходит родосско-ионийская ойнохоя, на плечиках которой представлена сцена преследования козла собакой. В. Н. Корпусова датировала этот сосуд 635-625 гг. дон. э. (Корпусова. 1980. С. 100-103), а М. Кершнер — несколько более ранним временем (Kerschner. 1997. S. 217-218).
Из погребальных комплексов степного Подонья происходят два фрагмента фигурных сосудов конца VII в. до н. э., имевших венчики в виде голов быка и барана (Книпович. 1935. С. 90. Рис. 25. С. 97. Рис. 26). Особенно интересен сосуд из кургана на р. Цуцкан, представляющий существо со смешаными признаками копытного животного и кошачьего хищника (Книпович. 1935. Примеч. на с. 96).
4.2. Находки греческой художественной керамики и металлических изделий в лесостепи
На обломках ойнохои конца третьей — последней четв. VII в. до н. э. из Немировского городища в Побужье можно увидеть изображения горных
314

Рис. 26. Комплекс основного погребения в кургане Темир-Гора (1-3 — детали колчана (?); 4, 5 — резная кость в зверином стиле;6 — греческая ойнохоя)
315
козлов, льва и собак (Онайко. 1966. Табл. III. 1-8, 10-11; Вахтина. 1998. Рис. 2-4).
На коринфском арибале из кургана у г. Лубны изображена пантера; примечательно, что сосуд этот был обнаружен в «культовой части» кургана, рядом с вертикально стоящим пирамидальным камнем (Каталог выставки VIII Археологического съезда. 1897. С. 4-5).
С так называемым культовым комплексом Трахтемировского городища связана находка ионийского килика с изображением утки (bird-bowl) (Онайко. 1966. С. 56. Табл. III, 12). Этот сосуд находился в помещении 1 большой наземной постройки, содержавшем жертвенник жаботинского типа, скопление птичьих костей, обломки лепных сосудов; здесь же был найден уникальный лепной птицеобразный сосуд (Ковпаненко. 1967. Табл. 11). По форме и орнаментации сосуд можно отнести к середине VII в. до н. э. (ср. Cook, Dupont. 1998. P. 27. Fig. 6.1); M. Кершнер датировал его второй четвертью этого столетия. При раскопках городища был также обнаружен фрагмент родосско-ионийского сосуда последней четверти VII в. до н. э. с изображением грифона (Ковпаненко. 1968. С. 109. Рис. 9).
К кругу греческих вещей, украшенных изображениями животных и происходящих из памятников скифской архаики, можно отнести и два серебряных браслета с золотыми львиными головками на концах (один целый, другой в обломках) из кургана Емчиха (Петренко. 1978. Табл. 46,3), аналогии которым известны в материалах греческого некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1980. Р. 117-118), и серебряные «серьги» с головками львов на щитках из этого же погребения (Петренко. 1978. Табл. 16,21 ) Некоторые исследователи (А. А. Иессен, Н. А. Онайко) считали, что они были изготовлены в Восточной Г реции, другие относили их к изделиям ольвийского производства (В. Ф. Гайдукевич, С. И. Капошина, Е. О. Прушевская). Основанием для последней точки зрения послужили находки таких подвесок в погребениях Ольвийского некрополя, изданные Б. В. Фармаковским (1914. С. 24. Табл. IX; Литературу по этой проблеме см.: Петренко. 1978. С. 25.).
4.3. Зеркало и ритон из Келермеса
Как полагали некоторые исследователи, за этапом простого соседства греческих и местных изделий в туземных памятниках следовало налаживание производства греческими ремесленниками вещей на заказ с учетом требований варварского рынка. Однако удревнение датировки знаменитых Келермесских курганов в Прикубанье показывает, что и этот процесс начался практически одновременно с началом потока «чистого импорта».
В настоящее время погребения в Келермесских курганах датируются временем от третьей четверти VII по рубеж VII—VI вв. до н. э. ( Галанина. 1983. С. 52-53; 1991. С. 15). Древности, обнаруженные в этих комплексах, обыч
316
но разделяют по стилистическим особенностям и центрам производства на 3 группы. К первой из них относится круг вещей, отражающих связи с Ближним Востоком (детали парадной мебели, ритуальные сосуды, парадное оружие, атрибуты власти) (Галанина. 1991. С. 15сл.). Ко второй группе относятся вещи, изготовленные под инокультурным влиянием, включающие, однако, и собственно скифские по сюжетам изображений и технике исполнения элементы (колчанная застежка с изображением копыта, украшения конской упряжи). И наконец, к последней группе вещей, связанной с деятельностью восточногреческих мастерских, обычно относят золотую диадему, украшенную протомой грифона, серебряные зеркало (рис. 27.2) и ритон. Два последних предмета, имеющие огромное значение для понимания целого круга проблем, крайне важны и для оценки ряда принципиально важных моментов, связанных с начальным периодом греко-варварских взаимодействий на территории Северного Причерноморья. Как нам представляется, ритон и зеркало из Келермеса дают достаточно оснований для того, чтобы прийти к выводу, что вещи эти были специально изготовлены для сбыта в аристократическую варварскую среду или даже сделаны на заказ (Максимова. 1954). Остановимся подробнее на некоторых образах и иконографических схемах, включенных в систему декора этих шедевров.
В. А. Кисель сравнительно недавно предложил новую дату изготовления келермесского зеркала — 650-620 гг. до н. э. (1993. С. 125), принятую
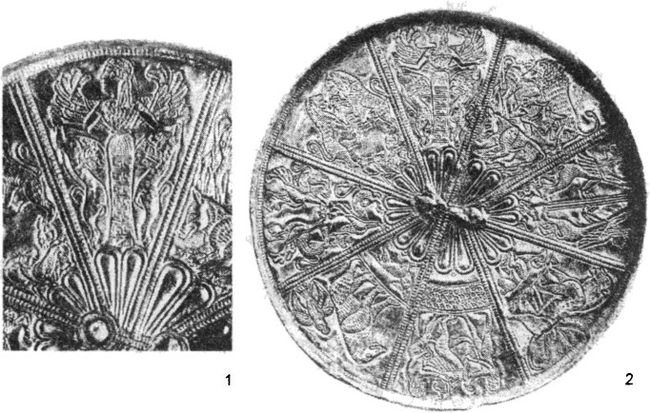
Рис. 27. Серебряное зекрало из Келермеса (1 — сектор 1 с изображением крылатой богини; 2 — изображения на электровой обкладке)
317
и Л. К. Галаниной (1997. С. 178). Однако несколько позже этот исследователь еще более удревнил возможную дату изготовления зеркала, отнеся ее к 670- 640 гг. до н. э. (2003. С. 99). Фрагментированный серебряный ритон из Келермеса В. А. Кисель отнес ко второй трети — концу VII в. до н. э. (2003. С. 80). Несмотря на то обстоятельство, что зеркало и ритон, скорее всего, были связаны с разными погребениями Келермеса (Галанина. 1997. С. 190-191), хронологическая и стилистическая близость этих шедевров делает возможным и перспективным их рассмотрение «в комплексе». Исследователи неоднократно отмечали, что вещи эти имеют форму, характерную для раннескифского вещевого комплекса — зеркало в виде диска с бортиком и центральной ручкой (не сохранившейся, но легко реконструируемой) и ритон в виде рога животного. В образную систему декора обоих предметов введены персонажи, символизирующие основные мифологемы степной Скифии и переданные в несколько иной, чем все прочие изображения, манере. Для зеркала — это фигурка свернувшегося кошачьего хищника («пантеры») в секторе 3, для ритона — оленя, показанного явно в жертвенном понимании.
На основе художественного анализа М. И. Максимова выделила в декоре зеркала изображения, свидетельствующие о знакомстве украсившего его мастера со скифским искусством Северного Причерноморья. К ним она причисляла и изображение барана, лежащего с подогнутыми ногами (Максимова. 1954. С. 204 сл.). Однако, хотя подобные изображения действительно характерны для архаического скифского искусства, тип копытного животного в подобной позе известен как в произведениях ближневосточного (Погребова, Раевский. 1992. С. 137 сл., там же см. литературу по проблеме), так и восточногреческого искусства (см., например: Hogarth. 1908. Pl. XX, 5). Так что вполне можно допустить, что эта схема была известна мастеру-декоратору келермесского зеркала по памятникам ближневосточного и греческого круга. Правда, В. А. Кисель относит изображения барана и кабана к изображениям «с отдельными элементами звериного стиля» (Кисель. 2003. С. 97).
Единственным изображением зеркала, без всякого сомнения, близкого памятникам архаического скифского искусства, остается изображение свернувшейся «пантеры», помещенное в нижней части сектора с фигурами сфинксов, привставших на задние лапы. Как убедительно показала М. И. Максимова (Максимова. 1954. С. 295-296), мастер стремился изобразить фигуру свернувшегося кошачьего хищника совсем в иной манере, чем все другие фигуры композиции: тело хищника передано рельефными плоскостями, что, характерно для скифского искусства эпохи архаики. Возможно, это изображение было скопировано греческим мастером непосредственно с изображения хищника, выполненного в традициях звериного стиля (Кисель. Указ. соч. С. 97).
318
Все же прочие изображения зеркала по своей художественной манере связаны с искусством Восточной Греции и стран Ближнего Востока (Максимова. Указ. соч. С. 287 сл., Кисель. 1993. С. 111).
Олень, представленный на ритоне, показан подвешенным вверх ногами как охотничья добыча к дереву, которое несет на плече кентавр. Как показала М. И. Максимова (1956. С. 229), изображения несущих таким образом добычу кентавров известны в греческой архаической вазовой живописи, однако изображение оленя в подобной сцене — явление уникальное. Д. Г. Савинов заметил, что если это изображение перевернуть, то мы увидим изображение копытного, полностью соответствующее канону раннескифского времени — оленя, стоящего на кончиках копыт (Савинов. 1987. С. 114-115).
Сравнительно недавно было высказано предположение о соотнесенности композиции сектора 5 келермесского зеркала, представляющей сцену борьбы двух длинноволосых, покрытых шерстью существ (аримаспов?) с грифоном, и «основного» мифа зеркала — вечной борьбе у сакрального центра мира зооморфных и антропоморфных существ, в свою очередь, самым непосредственным образом соотнесенным с архаической Скифией (Мачинский. 1998. С. 60; 1998а. С. 115). Как отметил Д. А. Мачинский, сектор 5 зеркала со сценой грифономахии композиционно связан с сектором 1, представляющим фигуру крылатого женского божества, держащего за передние лапы двух кошачьих хищников; это божество, занимающее доминирующее положение в круге композиций оборотной стороны зеркала, является «хозяйкой всего священного предмета и центром системы изображенных мифов» (Мачинский. 1998а. С. 114). Сходное изображение крылатого женского божества, представленное в схеме «коленопреклоненного бега», занимает господствующее положение и в системе декора келермесского ритона; богиня на ритоне, в отличие от богини на зеркале, сжимает в руках передние лапы грифонов. «Главные» изображения в декоре келермесских шедевров также можно соотнести с идеологическими представлениями северопричерноморских варваров. Рассмотрим их подробнее и попытаемся сравнить с изображениями, известными по памятникам греческого архаического искусства.
Богиня на зеркале
«Главным» персонажем в декоре, украшающем электровую обкладку серебряного зеркала из Келермеса, является изображение крылатого женского божества, полностью занимающего один из секторов (сектор 1) этой обкладки (рис. 27.1). Как отмечала М. И. Максимова, основной задачей мастера, украсившего этот предмет, было «...представить богиню-владычицу зверей среди подчиненных ей реальных и мифических существ» (Максимова. 1954. С. 285). Отмечено и то обстоятельство, что изображение это было
319
проработано мастером с особой тщательностью (Указ. соч. С. 284). Крылатое божество келермесского зеркала в литературе называли «Владычицей зверей» (Radet. 1909. Р. 21), Кибелой (Максимова. 1954. С. 293 сл.), Артемидой (Schiltz. 1994. Р. 116). Последнее из этих имен мы, признавая его условность, будем употреблять в дальнейшем при описании иконографического типа крылатого женского божества, держащего в руках животных, хотя в персонаже, изображенном на зеркале, очевидно, семантически и иконографически «слиты» представления о женских божествах Греции, Малой Азии и, возможно, Переднего Востока (Мачинский. 1998. С. 59-60), связанных с идеей господства над производительными силами природы и царством зверей. О том, что в самой Греции этот тип соотносился с образом именно Артемиды, явствует из известного отрывка Павсания, содержащего описание знаменитого «ларца Кипсела»: «...Артемида представлена с крыльями на плечах; правой рукой она держит барса, а другой рукой — льва» (Paus. V. XIX, 5).
Артемида келермесского зеркала изображена в фас, голова и ступни ног, стоящие непосредственно на лепестках розетки, украшающей центральную часть предмета, обращены вправо. На богине длинный, спускающийся до пят хитон, украшенный шестью поперечными полосами прерывистого меандра, поверх (?) которого надета «чешуйчатая» верхняя одежда, закрывающая бедра и подпоясанная. Подобную «двухчастную» одежду можно достаточно часто видеть на чернофигурных греческих сосудах эпохи архаики (например: Beazley, 1951. Pl. II, 21. Pl. 12, 1,2,4). У богини на зеркале большая голова, крупные черты лица, тщательно проработанная прическа, три «косицы» волос спускаются на левое плечо. Лоб пересекает «налобная повязка» (Кисель. 2003. С. 89), в которой мы скорее склонны видеть металлическую ленточную диадему, подобную той, которая украшала архаическую мраморную статую Артемиды из храма Аполлона в Дельфах (Homolle. 1879. Pl. 6 ; Fuchs, Floren. 1987. Taf. 21,5), прическа которой с тремя «косицами», с двух сторон спадающими на плечи, также напоминает прическу Артемиды келермесского зеркала. В руках, поднятых до уровня груди, Артемида держит по кошачьему хищнику, сжимая их передние лапы, задние их лапы висят в воздухе, чуть-чуть не доставая до того уровня, на котором покоятся ноги богини.
Ближайшей аналогией Артемиде с келермесского зеркала является изображение, украшающее нижний фриз бронзовой пластины из Олимпии, датирующейся в пределах второй половины VII в. до н. э. (Furtwängler. 1980. IV. Taf. 37). Изображение дано в той же иконографической схеме и отличается от келермесского лишь в деталях.
Изображения крылатой Артемиды в фас, держащей в руках кошачьих хищников, можно видеть и на резной кости из архаического храма Артеми
320
ды в Эфесе ( Hogarth. 1908. Р. 116-117. Р1. 21,6). Существует предположение, что западный фронтон этого храма был украшен ее скульптурным изображением, где богиня была представлена крылатой, со «львами» в руках (Hogarth. 1908. Atlas. Pl. XIII).
Крылатая Артемида со львом, стоящим у ее ног, изображена на фрагменте сосуда ориентализирующего стиля второй половины VII в. до н. э. с о. Тера (Radet. Р. 12. Fig. 14). В такой же схеме, со львом у ног, богиня представлена и на костяной спинке фибулы, относящейся ко времени около 600 г. до н. э., из святилища Перахоры (Perahora. II. Р. 404-405. Pl. 172-А2). Серию изображений крылатой Артемиды в фас, держащей за передние или задние лапы кошачьих хищников, можно видеть на электровых подвесках, датирующихся в пределах 700-600 гг. до н. э., из некрополя Камир на о. Родос (Higgins. 1961. Pl. 19-20; 1980. Pl. 19: В, D, Е; Pl. 20: С, Е; Mere Egee Grece... η. 92,93,96,97). К этой же группе изображений относится и женская фигура в фас, держащая за уши двух львов, на бронзовом фрагментированном вотивном щите из Идейской пещеры на Крите ( Kunze. 1931. п. 2,5, 7; Demarg-пе. 1947. Р. 292-293. Fig. 57), датированном по дате всей группы 750-650 гг. до н.э (Boardman. 1961. Р. 84).
Несколько находок с изображением крылатой Артемиды, держащей за лапы кошачьих хищников, происходят из Великой Греции. К ним относится композиция на ручке бронзовой гидрии начала V в. до н. э., найденной недалеко от Тарента (Charbonneaux. 1962. Р. 63. Pl. II, 2). В этом случае богиня держит в руках зайцев и львов, другая пара львов восседает по обе стороны от ее головы на венчике сосуда. Из различных областей Великой Греции происходят также антефикс из Капуи, рельеф из Клузиума ( Radet. Р. 22. Fig. 29. Р. 26-27. Fig. 40) и пара серебряных подвесок (некрополь Пренесте), где богиня фланкирована крылатыми львами (Marshall. 1911. п. 1357), относящиеся к началу V в. до н. э.
Упомянем также находку фрагмента бронзового изображения крылатого женского божества в фас, происходящую из самосского Герайона, относящуюся к 600-550 гг. до н. э.( Mere Egee Greece des Iles... P. 171, η. 120), и бронзовую крылатую обнаженную полуфигуру из Олимпии ( Fuchs, Floren. Taf. 19, 4. S. 234), датирующуюся началом VI в. до н. э. Нижние части этих изображений не сохранились, и потому в этом случае об атрибутах богинь можно судить лишь предположительно.
Изображения крылатого женского божества, держащего в руках кошачьих хищников, обнаруженные за пределами Материковой, Ионийской и Великой Г реции, крайне немногочисленны. Подобных крылатых Артемид можно видеть на метопах из Сард, относящихся ко времени около 600 г. до н. э. (Van Loon. 1990. Pl. 45, b), a также на мраморной стеле V в. из фригийского Дорилона (Fuchs, Floren. 1987. Taf. 36,2; Hiller. Taf. 13A). Заметим,
321
впрочем, что Сарды находились достаточно близко от Эфеса, где в архаическую эпоху существовало знаменитое святилище Артемиды (и откуда происходит упомянутое выше ее крылатое изображение), пользовавшееся неизменным вниманием и покровительством восточных правителей, сначала лидийских, а позже — персидских (Hogarth. 1908. Р. 2-3), и возможно, в этом регионе бытовали сходные сюжеты и иконографические схемы. Фригийский же рельеф, вероятнее всего, был изготовлен мастером-греком (Fuchs, Floren. 1987. S. 406).
Нетрудно убедиться, что тип крылатого женского божества с кошачьими хищниками в руках характерен в эпоху архаики прежде всего для областей Материковой и Восточной Греции.
Итак, для изображения «главного» персонажа в системе декора электро-вой обкладки келермесского зеркала мастером-декоратором была выбрана иконографическая схема «крылатое женское божество и кошачьи хищники», достаточно широко распространенная в греческом архаическом искусстве. Это заставляет нас склониться к традиционному предположению о том, что зеркало было, скорее всего, украшено греческим мастером (Максимова. 1954. С. 304). В целом, по справедливому замечанию В. Шильтц, серебряное зеркало из Келермеса «говорит на греческом художественном языке» (Schütz. 1994. Р. 116). Изготовивший его мастер был хорошо знаком как с восточно-ионийскими художественными традициями, так и с кругом передневосточных памятников.
Божество на ритоне
К. Шефольд и М. И. Максимова полагали, что и зеркало, и ритон из Келермеса были изготовлены одним и тем же мастером (Schefold 1938; Максимова. 1956. С. 231 ), В. А. Кисель же считает, что эти произведения вышли из разных рук, причем в ритоне видит больше греческих черт и без сомнений определяет его как «произведение мастера, тесно связанного с ионийской художественной традицией» (Кисель. 2003. С. 75, 80). Предмет этот был сделан во второй половине VII в. до н. э. (Галанина. 1997. С. 148; Кисель. 2003. 80).
Божество на ритоне (рис. 28.1 ) изображено в позе «коленопреклоненного бега» влево. На ногах богини — крылатые сандалии, правая нога обнажена, левая — почти полностью скрыта длинным хитоном, украшенным продольными полосами прерывистого меандра и каймой по краю. Каждой рукой богиня держит за переднюю лапу грифона. В верхней части изображения видна пара крыльев, трактованных так же, как и у богини на зеркале. Г олова сохранилась очень плохо — на небольшом фрагменте видны часть прически, ухо и левый глаз (?), так что невозможно судить, была ли голова богини дана в фас или в профиль, хотя М. И. Максимова, а вслед за ней и другие уче-
322
Рис. 28.1 - божество на пластине серебряного келермесского ритона; 2 — божество на зеркале
ные склонны видеть здесь профильное, как и на зеркале, изображение (Максимова. 1956. С. 230; Бессонова. 1983. С. 86; Галанина. 1997. С. 228).
Обычно, говоря о фигурах женских божеств, украшавших зеркало и ритон из Келермеса, делают акцент на различиях (типологических и семантических) этих двух изображений. Так, С. С. Бессонова видит в богине на зеркале тип «Потнии терон», а в богине на ритоне — персонаж, близкий к античной Медузе или Нике, исходя из ее позы «коленопреклоненного бега» и наличия крылатых сандалий (Бессонова. 1983. С. 82-86). В. А. Кисель также склонен считать богиню на ритоне Медузой (Кисель. 1998а. С. 87).
Однако, как мы попытаемся показать, в греческом архаическом искусстве эти персонажи — крылатая Артемида и Медуза — были иконографически (а вероятно, и семантически) взаимосвязаны.
Действительно, в греческом архаическом искусстве существует целый ряд изображений крылатых Медуз в позе «коленопреклоненного бега». В это время такие изображения можно видеть в сценах, запечатлевших Медузу в момент ее гибели от рук Персея. Полагают, что миф этот был особенно популярен в Греции в первой половине VI в. до н. э. (Langlotz. Hirmer. 1965. P. 243). Одно из древнейших изображений, относящихся к этому кругу, можно видеть на фрагменте костяной пластины из самосского Герайона (Hampe, Simon. 1981. Р. 230. п. 348). Известны изображения Медуз в крылатых сандалиях, в длинных одеждах, которые почти полностью скрывают
323
одну ногу, тогда как другая обнажена. В качестве примеров можно привести раскрашенный терракотовый рельеф из Сиракуз, который Дж. Бордман относил к концу VII в. до н. э. (Boardman. 1975а. Р. 53. Fig. 49), а Е. Ланглотц — к 560 г. дон. э. (Langlotz, Hirmer. 1965. P. 243. Pl. I), рельеф на фронтоне архаического храма Артемиды в Керкире (Fuchs, Floren. S. 114,5; Fehr. 1996. P. 116. Fig. 1). Существуют изображения крылатых Медуз в длинных одеждах, с обнаженной ногой и в греческой вазовой живописи ориентализирующего (Walter. 1968. Taf. 130. η. 6260 ) и раннего чернофигурного стилей ( Beazley. 1951. Р. 14. Р1. 5). Однако для той же эпохи известны и «статичные» фронтальные изображения крылатых Медуз, например, на бронзовой пластине VI в. до н. э., найденной на Афинском акрополе (Touloupa. 1869. Fig. 4,6). С другой стороны, существуют и изображения крылатой Артемиды в виде прекрасных дев в крылатых сандалиях, в позе коленопреклоненного бега, с обнаженной ногой, представленные мраморными скульптурами из святилищ в Дельфах и на Делосе (Homolle. 1879. Pl. VI—VII; Fuchs, Floren, Taf. 21, 5).
Таким образом, несмотря на существование типов крылатой Медузы в схеме коленопреклоненного бега и крылатой Артемиды, в Греции эпохи архаики известны и «смешанные» типы, обладающие чертами Артемиды-Горгоны. К этому кругу смешанных изображений «прекрасных дев-Горгон» можно отнести и фрагмент подставки бронзового сосуда в виде фронтального изображения бескрылой стройной женской фигуры в длинных одеждах, с пышной прической и спускающимися на плечи «косицами», но с чертами Горгоны (большие круглые глаза, широкий нос, оскаленные зубы) и львиной (?) лапой на голове, найденную недалеко от о. Родос и датируемую временем около середины VI в. до н. э. (Mer Egée Grèc des Iles. P. 156-157. n. 102).
В пользу соотнесенности этих образов в представлениях населения архаической Греции можно привести соображения о нередком «соседстве» этих персонажей. Так, на знаменитой «вазе Франсуа» изображения крылатых Артемид помещены на ручках кратера в рядом с медальонами, в которых изображены горгонейоны. Уже упоминавшаяся композиция с изображенем крылатой Медузы украшала фронтон храма в Керкире. Судя по реконструкции (Fehr. 1996. Р. 168. Fig. 3), крыша раннего храма Геры в Керкире была украшена ярко раскрашенными терракотовыми антефиксами с чередующимися изображениями горгонейонов, дев и кошачьих хищников.
Нетрудно заметить, что весьма часто крылатые Медузы, как и Артемиды, держат в руках кошачьих хищников или соседствуют с ними. Что же касается изображения грифонов, то в качестве атрибутов как Артемиды, так и Медузы эти фантастические существа встречаются гораздо реже. Точных аналогий иконографической схеме, представленной на келермесском ритоне, в круге синхронных памятников обнаружить не удается.
324
Мы можем привести лишь одну близкую аналогию, принадлежащую архаической эпохе. — композицию на ручке бронзового кратера второй половины VI в. до н. э. из коллекции Клерка, хранящейся в Лувре (De Ridder. 1915. п. 423) и происходящей из Киликии, на которой крылатая Медуза представлена в схеме коленопреклоненного бега, у ног ее — две протомы ушастых грифонов.
Невелико и количество изображений, которые можно привлечь в качестве иллюстраций, свидетельствующих о связи в эпоху архаики образа грифона с образами как Медузы, так и Артемиды. К их числу относятся изображение на амфоре раннего краснофигурного стиля, принадлежавшей берлинскому мастеру, где на щите Афины помещена эмблема в виде горгонейона, окруженного протомами животных и фантастических существ, в круг которых наряду с тремя львами, Пегасом, крылатым козлом включен и грифон (Beazley. 1961. Р. 58-60. Р1. 25, 1), и упоминавшийся выше терракотовый рельеф с о. Эгина с изображением женского божества (предположительно Артемиды) на колеснице, запряженной парой грифонов, относящийся к началу классической эпохи.
Вообще сама схема «женское божество и грифоны» в раннегреческом искусстве достаточно редка. Бескрылое женское божество с грифонами в руках можно видеть на резных печатях микенской эпохи, некоторые из которых упоминались выше (Boardman. 1970. Р. 103. п. 113, 145 — с двумя грифонами; ср. Hampe, Simon, 1981. п. 277, 285 — с одним грифоном). Среди находок, принадлежащих к интересующему нас времени, кроме упомянутых выше, нам известны еще два предмета, в декоре которых присутствуют изображения женщин в окружении этих фантастических существ. Это золотая пластина (часть фибулы?), входившая в состав клада VII в. до н. э., найденного на территории Лидии (Траллы), на которой изображена фронтальная обнаженная женская фигура, с двух сторон от нее помещены шестилепестковые розетки, а выше — две протомы грифонов (Dumont. 1879. р. 129-130), и ручка-подставка бронзового зеркала, изготовленного в Спарте или северном Пелопоннесе, хранящегося в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в виде обнаженной женской фигуры, стоящей на льве, на плечи которой опираются два грифона, передними лапами поддерживающие диск (Boardman. 1975а. Fig. 104). Дж. Бордман датировал это зеркало 530 г. до н. э. (Ibid. Р. 105), а Г. М. Рихтер — второй половиной VI в. до н. э. (Richter. 1938. Р. 337-344). Примечательно, что хотя во второй половине VI — начале V в. до н. э. тип ручек-подставок в виде женских фигур, на плечи которых опираются кошачьи хищники или фантастические существа (сфинксы, сирены), «поддерживающие» диск над головой богини, достаточно широко распространен в материковой и Великой Греции (см., например: Charbonneaux. 1962. Pi. XI, 3; Fuchs, Fehr. 1987. Taf. 18,9; Jantzen. 1937. Taf. 18,71,74.
325
Taf. 19, 75-77. Taf. 28, 116-117; Langlotz, Hirmer. 1965. Pl. 27), экземпляр с парою грифонов является уникальным.
Изображения грифонов крайне редко можно увидеть в качестве элементов декора и на изделиях, входивших в состав женского вещевого комплекса. Пара головок грифонов помещена на золотой подвеске начала VII в., найденной на о. Мелос (Higgins. 1980. Р. 115. Р1. 18: Е). К серии золотых пластин, принадлежавших к категории женских нагрудных украшений, обнаруженных в архаических погребениях некрополя Камира (о. Родос), относится четырехугольная подвеска, датирующаяся 630-620 гг. до н. э., в нижней части которой помещены две протомы грифонов (Mer Egée Grèce des Iles... P. 149-150. n. 89); среди бляшек из Камира есть и бляшки с изображением грифонов (Higgins. 1980. Р. 117. Р1. 20: D).
Из вещей, обнаруженных на территории Скифии, к женским погребальным комплексам принадлежат две находки, имевшие изображение грифонов. Первая представляет собой пару золотых серег, происходящих из кургана №2 ус. Пастака (Дорт-Оба) в Крыму (Петренко. 1978. С. 107. Табл. 19-10, 10-а). Эти украшения в виде полых «калачиков» с дужкой (рис. 28.1) принадлежали к типу, распространеному в VII—VI вв. до н. э. как в Греции, так и на Переднем Востоке (Скржинская. 1986. С. 112-114, там же см. литературу). В данном случае к серьгам на концах «калачиков» были добавлены уникальные завершения в виде головок грифонов архаического типа (рис. 29.1 ). Примечательно, что серьги эти использовались довольно долго, подвергались переделке и наконец попали в состав погребального инвентаря кургана более позднего времени.
Другой яркой находкой, обнаруженной на территории Северного Причерноморья интересующего нас времени и принадлежавшей к женскому погребальному инвентарю, является бронзовое с железной ручкой зеркало второй половины VI в. до н. э. из кургана бус. Басовка (лесостепь, Роменский р-н Сумской обл.), представляющее собой диск с боковой ручкой (Фармаковский. 1914. Табл. XIII, 7; Онайко. 1966. Кат. № 72 и 253. Табл. 19,2). Это зеркало являет собой результат эксперимента греческого мастера, стремившегося соединить в декоре одного предмета разнохарактерные изображения: в основании ручки под диском помещена пальметка с волютами, а на конце — симметрично расположенные головки грифонов, обращенных друг к другу клювами (рис. 29.2). Этот пример может служить иллюстрацией как явной и простодушной попытки мастера «подогнать» свое изделие к местным представлениям (очевидно, к идее «женщина и пара грифонов»), так и полного непонимания им канонов и «духа» скифского искусства, в результате чего головки грифонов были превращены в орнаментальный мотив, образовавший скучную симметрию с другим, чисто античным элементом декора — пальметкой. Такое «снижение» ключевых образов скифского искусст
326
Рис. 29. 1 — золотые серьги из кургана у с. Пастака; 2 — бронзовое зеркало из кургана у с. Басовка
ва в работах греческих мастеров можно увидеть и на произведениях грекоскифской торетики более позднего времени. Вероятно, это зеркало было изготовлено в самой Ольвии, откуда происходит фрагмент ручки зеркала того же типа, с очень похожей пальметкой (Фармаковский. 1914. Табл. X, 7).
Итак, как нам представляется, и на зеркале, и на ритоне из Келермеса изображены божества, соотнесенные мастером (мастерами) с греческими образами крылатой Артемиды и Медузы. На зеркале божество представлено неподвижно стоящим, с кошачьими хищниками в руках, величественно «царящим» среди соподчиненных ему персонажей и символов. Иконографическая схема, в которой оно представлено («крылатое женское божество и кошачьи хищники»), достаточно широко встречается на памятниках Восточной и Материковой Греции. Богиня же, изображенная на ритоне, передана в движении, с грифонами в руках, достаточно редко выступающими в качестве ее атрибутов в греческом архаическом искусстве. Точных аналогий схеме «крылатое женское божество и грифоны» обнаружить не удается. Все немногочисленные вещи, изображения на которых можно рассматривать в качестве сюжетных аналогий, представляют как бы исключения в своей серии. Причем ни на одном из известных нам и рассмотренных в ка-
327
честве аналогий памятников божество не обращается с этими фантастическими существами так решительно, демонстрируя свою власть над ними, как на келермесском ритоне, где оно увлекает их за собой в стремительном движении. Образы грифонов, вероятно, подчеркивали хтонические функции божества, а также особую его связь с миром Северного Причерноморья.
Поэтому, на наш взгляд, изображения женского божества, украшающие эти изделия, можно рассматривать как древнейшие антропоморфные изображения в искусстве Великой Скифии. Выполненные в инокультурной (восточногреческой) манере, эти изображения, вне всякого сомнения, отражают «запросы» туземного общества и бытовавшие здесь представления о верховных женских божествах.
Обычно, говоря о женских образах на келермесских зеркале и ритоне, подчеркивают разницу в их иконографических типах и полагают, что на этих изделиях представлены разные божества, условно называемые «Владычица животных» и «Медуза» (Бессонова. 1983. С. 44; Кисель. 1998. С. 87, 104). Лишь Д. С. Раевский склоняется к мысли, что и на зеркале, и на ритоне, возможно, изображен один и тот же персонаж — Владычица животных (Раевский. 1985. С. 94). Несомненно, богиня на зеркале ближе всего к греческому архаическому типу «крылатой Артемиды», одной из функций которой была власть над царством зверей. Богиня же на ритоне предположительно ближе к изображениям Медузы в позе «коленопреклоненного бега». Однако, как мы пытались показать выше, в искусстве архаической Греции эти божества были достаточно тесно связаны. Существовал и целый ряд памятников, где переплетаются черты «крылатой Артемиды» и Медузы. Поэтому, как нам кажется, на келермесских зеркале и ритоне было представлено либо одно и то же божество в двух разных ипостасях, либо (что менее вероятно) божества, чрезвычайно близкие как по облику, так и по своим функциям.
Богиня на зеркале представлена в статичной позе, царящей над всем священным предметом и изображенными на нем существами и символами, и в известном смысле соотнесенной с ними, в том числе — и со сценой грифоноборства в секторе 5 (Мачинский. 1998. С. 59-60). Кошачьи хищники в ее руках, поза которых демонстрирует полную покорность, подчеркивают ее близость греческой Артемиде, одной из функций которой была власть над миром зверей.
Богиня на ритоне представлена в более динамичной, грозной позе. Грифоны в ее руках тоже достаточно активны, с раскрытыми клювами, их задние лапы (в отличие от лап хищников на зеркале) стоят на том же уровне, что и ноги богини, передние — напряжены, а не висят безвольно. «Воинственные» черты богини, вероятно, подчеркивает фигурка «скифского оленя», висящая в качестве добычи на ветке в руках кентавра и, возможно, мыслив
328
шаяся как приношение божеству. Не исключена возможность, что этот облик божества связан с ритуальными функциями ритона, безусловно являвшегося мужским атрибутом на протяжении всей скифской эпохи.
Соотнесенность этих персонажей с изображениями грифонов (достаточно редкий мотив в искусстве архаической Греции) связывает божество (божества), с одной стороны, с «гиперборейским мифом», в свою очередь, самым непосредственным образом связанным с миром Северного Причерноморя (Мачинский. 1998а. С. 113 сл.), с другой — с представлениями о загробном мире (Раевский. 1985. С. 112-113). Персонажи, изображенные на зеркале и ритоне, по представлениям древних, господствовали над необозримыми пространствами Скифии и всеми стихиями, над мирами живых и мертвых.
Если наши заключения логичны, то в качестве предмета, также отражающего начавшийся процесс взаимодействия между искусством греков и варваров на территории Северного Причерноморья, можно рассматривать и одну из золотых диадем, обнаруженных при раскопках Келермесских курганов, имеющей в центральной части уникальное украшение в виде протомы грифона (Галанина. 1997. С. 134. Кат. 38. Табл. 30). Сравнительно недавно В. А. Кисель предложил датировать ее первой половиной — серединой VII в. до н. э. (Кисель. 2003. С. 55). Предположение о том, что диадема с протомой грифона была специально изготовлена для сбыта в скифский мир Северного Причерноморья (или же на заказ), было в свое время высказано Р. Хиггинсом ( Higgins. 1980. Р. 125). Учитывая семантическую связь «грифон и женское божество», явственно проступающую в качестве «местной особенности» на древнейших памятниках эллино-скифской торевтики, это предположение представляется весьма обоснованным.
Обратим внимание еще на два изображения келермесского ритона, чисто греческие по исполнению. Первое из них — фигура всадника-варвара в профиль, сохранившаяся фрагментарно. М. И. Максимова считала это изображение частью фигуры амазонки (Максимова. 1956. С. 225. Рис.7). К сожалению, можно различить лишь изображение конного варвара, поза и посадка которого ставят эту фигуру в один ряд с изображениями всадников-скифов на золотых бляшках из «царских» курганов IV в. до н. э. Такие изображения известны и на ритонах этого времени, например, на ритоне из кургана Карагодеуашх.
На другом сохранившемся фрагменте келермесского ритона можно рассмотреть изображение человека, борющегося со львом, или человека в львиной шкуре, определенное М. И. Максимовой как изображение Геракла (Указ. соч. С. 226. Рис. 9). Особая роль этого героя в греческом искусстве Северного Причерноморья, восприятие его изображений в туземной среде и связь этого образа с представлениями о местном женском божестве (бо
329
жествах) признаются многими исследователями (Граков. 1950; Раевский. 1977. С. 60 сл., Бессонова. 1983. С. 44). Впрочем, В. А. Кисель различает на обломках ритона еще не менее двух изображений человека со львом (Кисель, 1998. С. 85).
4.4. Греческие металлические художественные изделия, украшенные антропоморфными изображениями, в туземных памятниках региона
Продолжая тему распространения (и становления) антропоморфных изображений в туземном мире Северного Причерноморья, отметим, что в конце рассматриваемого нами периода фиксируется целый ряд находок художественных металлических изделий, украшенных антропоморфными образами, обнаруженных в варварских аристократических погребениях степной и лесостепной зон Северного Причерноморья. Из зоны степей происходит серия бронзовых зеркал, украшенных изображениями женских фигур и горгонейона. Все они были найдены в составе погребального инвентаря варварских подкурганных захоронений. Три находки связаны с районом степного Приднепровья и одна — с районом Нижнего Дона.
К числу наиболее интересных находок принадлежало зеркало, от которого сохранились бронзовая ручка-подставка в виде задрапированной женской фигуры в окружении животных и фантастических существ, фрагменты краев диска и части его декора. Зеркало, а также золотая, украшенная двумя рядами треугольников из зерни подвеска-лунница и сероглиняный кружальный кувшин происходят из Рожновского кургана неподалеку от г. Херсон, грабительски раскопанного крестьянами и доследованного В. Гошкевичем в 1896 г. (Деревицкий. 1896. С. 104, 109. Рис. 1-3; Гошкевич. 1903. С. 44. Табл. VIII). В состав комплекса входили не попавшие в руки ученых и утраченные фрагменты по меньшей мере двух лепных (?) сосудов, золотые ожерелье и перстень.
Ручка зеркала представлет собой женскую фигуру в дорийском пеплосе и хитоне, край которого поддерживает ее левая рука, на согнутой в локте правой помещена фигурка сирены (рис. 30). На голове — сложная прическа (тщательно проработанная как спереди, так и сзади, где пышные волосы ниже плеч собраны в пучок) и диадема, имеющая в центральной части точно такое же круглое украшение, что и ожерелье на шее (подробное описание деталей композиции см.: Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 1-20). На плечи женской фигуры, привстав на задние лапы, «опираются» два шакала (фигурка третьего, судя по реконструкции, украшала верхнюю часть бронзового диска зеркала), их головы «поддерживают» композицию, располагавшуюся между диском и женской фигурой, на которой изображены два льва, тер-
330
Рис. 30. Ручка-подставка бронзового зеркала из кургана бывш. Херсонской губ.
зающих копытное животное (быка?). Сохранившиеся фрагменты диска самого зеркала имеют довольно высокий (0,5-0,8 мм) бортик, так что, возможно, данный предмет представлял собой патеру. Против этого, однако, может свидетельствовать то обстоятельство, что задняя поверхность фигуры передана в рельефе (а не уплощена), а отдельные детали ее (прическа, ремни на сандалиях) столь же хорошо проработаны. С. Жебелев считал зеркало «произведением ионийского художественного мастерства второй половины VI в. до н. э.» (Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 18), 3. Билимович же полагала, что зеркало было изготовлено этрусским мастером, и датировала его временем ок. 500 г. до н. э. (Билимович. 1976. С. 35 сл. Кат. № .2).
Бронзовые зеркала (и патеры), имевшие ручки в виде задрапированных и обнаженных человеческих фигур (мужских и женских), производились в различных центрах Греции с первой половины VI по вторую половину V в. до н. э. (Charbonneaux. 1962. Р. 88-89). 3. А. Билимович, впрочем, предлагает более узкую дату бытования зеркал этого типа — с середины VI по середину V в. до н. э. (Билимович. Указ. соч. С. 33). Тип ручки-подставки в виде задрапированной женской фигуры, левая рука которой поддерживает край хитона, а правая, согнутая в локте, сжимает какой-либо предмет, был достаточно широко распространен. Подобную позу можно увидеть на ручках зеркал из Коринфа (Fuchs, Floren. 1987. S. 202. Taf. 14,6), Эгины, северного Пе
331
лопоннеса (Charbonneaux. Pl. XIV, 1; P. 49. Fig. 4), Великой Греции (Jantzen. 1937. Taf. 13, 53-54; Taf. 18; Taf. 20,82-84; Taf. 28, 119). Большинство изображенных на них «кор» одеты так же, как и женская фигура из Рожновского кургана. На голове бронзовой фигурки, хранящейся в Британском музее, можно увидеть диадему с круглым украшением посредине, а на шее — ожерелье с таким же украшением, подобные тем, которые изображены на ручке из Северного Причерноморья (Ibid. Taf. 28, 118). Похожая диадема (правда, с тремя круглыми украшениями) венчает голову бронзовой женской фигурки из музея Метрополитен, датирующейся в пределах второй половины VI в. до н. э. (Richter. 1912. Pl. 3-4), стоящей в той же позе и имевшей сходное одеяние.
Большинство «второстепенных» персонажей и композиций, украшавших зеркало, также известны на памятниках этого класса. Не находят аналогий лишь фигурки шакалов, хотя в качестве украшений диска известны изображения других мелких хищников — собак, лисиц. Двух сирен со сложенными крыльями, с лицами, обращенными к зрителю, можно видеть «поддерживающими» диск на зеркале с ручкой в виде обнаженной женской фигуры, найденном в Спарте (Fuchs, Floren. 1987. S. 225, Taf. 18,9). Композиция в виде двух львов, терзающих копытное животное, помещена над головой женской фигуры на ручке зеркала из с. Чукарка в Болгарии (р-н Бургаса) (Filov. 1925. Р. 16; Василев. 1988. С. 98 сл. Рис. 76). По-видимому, эта ручка является ближайшей аналогией ручке из Северного Причерноморья. На ней мы видим «кору» в той же позе, левой рукой поддерживающую край одежды, на согнутой правой сидит птица. На плечи опираются две фигурки сфинксов, над ними — сцена терзания. Правда, в отличие от нашей вещи, детали здесь плохо проработаны, да и сама сохранность вещи оставляет желать лучшего.
Бронзовые зеркала (местных типов) являются частым элементом погребального обряда раннескифской культуры. Сакральные и магические функции этих предметов являются общепризнанными (см., например: Раевский. С. 97 сл.; Бессонова. 1983. С. 102 сл.; Kubarev. 1996. S. 337-339). О том, что с этим предметом могли сочетаться изображения женского божества, занимая главенствующее положение в системе декора, видно на примере келермесского зеркала. В случае с зеркалом из Рожновского кургана, изготовленным в чисто античной традиции за пределами Северного Причерноморья, можно констатировать, что оно было просто адаптировано местной культурой, а ручка-подставка в виде женской фигуры, бескрылой, но с крылатым фантастическим существом в руке, в окружении хищных зверей, (причем среди элементов декора была представлена сцена терзания кошачьми хищниками копытного), возможно, воспринималась как изображение женского божества, аналогичного или же близкого по своим функциям тому, которое представлено на вещах из Келермеса.
332
К кругу предметов, чисто греческих по форме и декору, украшенных женскими изображениями и найденных в раннескифских курганах бывшей Херсонской губ., относятся еще два зеркала. Первое зеркало происходит из кургана у с. Анновка (Деревицкий. 1896. С. 108) и относится к тому же классу зеркал с ручками-подставками, что и предыдущее. Примечательно то обстоятельство, что ручка-подставка представляла собой обнаженную женскую фигуру1. 3. А. Билимович определила, что оно было изготовлено на о. Эгина во второй половине VI в. до н. э. (Билимович. 1976. С. 35 сл. Кат. № 2; подробное описание и аналогии см.: Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 125 сл.). Эта находка — самый ранний образец из известных нам изображений «обнаженной натуры» в погребальных памятниках степного Причерноморья скифской эпохи. Фигура трактована мягко, имеет юношественные очертания, ноги длинные. Прическа тщательно проработана, она несколько напоминает прическу, которую можно увидеть на предыдущем изображении, — пышной волной ниспадающие волосы на спине на уровне лопаток перехвачены лентой.
Еще одно зеркало происходит из некрополя у с. Марицино (Прушевская. 1955. С. 328. Рис. 3). Оно относится к классу плоских зеркал, у которых диск и ручка представляли собой единое целое. С начала VI по конец V в. до н. э. зеркала этого типа производились в трех центрах — Коринфе, Аргосе и Спарте (Билимович. 1976. С. 38 сл.). Зеркало из кургана ус. Марицино принадлежит к аргосской группе зеркал и датируется в пределах второй половины VI — начала V вв. до н. э. Оно имеет выгравированное на ручке профильное изображение задрапированной женской фигуры влево, в медальоне на конце ручки помещена двенадцатилепестковая розетка.
Зеркало с маской Медузы на конце боковой ручки было найдено на нижнем Дону в кургане 4 некрополя Елизаветовского городища (Миллер. 1910. Рис. 5, 10). Такие зеркала обычно датируют концом VI — началом V в. до н. э. (Онайко. 1966. Кат. № 223). В погребение оно, исходя из датировки комплексов могильника (Брашинский. 1976. С. 98), а также данного комплекса, очевидно, попало в начале V в. 3. А. Билимович относит такие зеркала к зеркалам «смешанной группы» плоских зеркал (Билимович. 1976. С. 40), к которой принадлежит и зеркало, происходящее из Ольвии, хранящееся в Эрмитаже и также украшенное маской Медузы на конце ручки (Указ. соч. Кат. № 7). Примечательно, что в этом случае оно, судя по инвентарю, включавшему, помимо керамики, остатки железных панцирных пластин, входило в состав мужского погребения.
К интересующему нас времени относится и находка фрагментированной бронзовой гидрии в кургане 24 некрополя Нимфея, в основании ручки кото
1 Аналогии женским обнаженным фигуркам, украшающим ручки бронзовых архаических греческих зеркал см.: Treister. 2003.
333
рой помещено изображение крылатого фантастического существа — сирены, имевшего женское лицо (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 109). Из этого же кургана происходит и бронзовое ситечко с аналогичным украшением (Силантьева. 1959. Рис. 35), относящееся к первой половине V в. до н. э. (Билимович. 1979. С. 26-28. Рис. 1). Курганный могильнику боспорского города Нимфей представлял собой некрополь, содержавший захоронения номадов. Интересно, что металлические украшения конской упряжи, входившие в состав погребальных комплексов этих курганов, «тяготеют» к более западным областям (р-ну Приднепровья) как по своим стилистическим особенностям (Указ. соч. С. 71сл.), так и по химическому составу металла (Барцева. 1980. С. 89).
В коллективной монографии Б. Б. Пиотровского, Л. К. Галаниной и H. Л. Грач бронзовый античный сосуд из нимфейского кургана определен как этрусский и отнесен к первой четверти V в. до н. э. 3. А. Билимович несколько ранее датировала его (как и гидрию из с. Песчаное, речь о которой пойдет ниже), более поздним временем — 460-450 гг. до н. э. (Билимович. 1984. С. 76. Кат. № 4). Эта исследовательница причисляет нимфейский экземпляр к кругу гидрий-кальпид и приводит ей ряд аналогий (Указ. соч. С. 74 сл.).
Производство больших бронзовых сосудов для воды начинается в различных центрах северной Греции примерно в то же время, что и изготовление металлических кратеров. Среди исследователей не существует единого мнения о том, в каких центрах изготавливались бронзовые гидрии с вертикальными ручками, имевшими в основании украшения в виде фигурок. Самый ранний образец вертикальной ручки подобного сосуда, украшенный в основании женскими полуфигурами, относится к первой половине VI в. до н. э. (Charbonneaux. Р. 61. Р1.1,2). В V в. до н. э. женские изображения (в том числе — сирен) на ручках бронзовых гидрий широко распространены. Например, изображение сирены в основании вертикальной ручки можно видеть на гидрии из Лувра (Ibid. Р. 63. Fig. 11 ).
Одной из самых интересных находок, обнаруженных в лесостепной зоне Северного Причерноморья и связанных с интересующей нас темой, является фрагментированный бронзовый кратер, происходящий из кургана у с. Мартоноша в среднем Приднепровье, сравнительно недалеко от современной границы степной и лесостепной зон (бывш. Херсонская губ., современная Кировоградская обл.).
Бронзовый кратер из с. Мартоноша
Ручка и верхняя часть (ныне утраченная) «кратера с волютами» (рис. 31 ) были найдены крестьянами-кладоискателями, раскопавшими курган у с. Мартоноша. В 1889 г. В. Ястребов доследовал курган по поручению Археологической комиссии. Он выяснил, что курган, входивший в группу из
334
Рис. 31. Фрагменты кратера из кургана у с. Мартоноша
6 более мелких насыпей, был окружен небольшим валом, имевшим три «въезда» — с восточной, западной и юго-западной сторон. На глубине примерно 2 саженей от вершины курганной насыпи исследователь обнаружил площадку, по краям которой были вкопаны в землю 4 греческих амфоры (не сохранились) и стоял бронзовый скифский котел с коровьими (?) костями. Здесь же, по указанию находчиков, находился и греческий кратер (Ястребов. 1892. С. 29-31). Докопав курган, В. Ястребов обнаружил ограбленное в древности основное погребение. Ручка кратера была украшена изображением Медузы с двумя парами крыльев в позе «коленопреклоненного бега» влево. На Медузе длинный хитон без рукавов, левая нога, согнутая в колене, обнажена. У ног ее по обеим сторонам — две змеи. Кратер датируется 530 г. до н. э. (Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 21. Pl. 55).
Металлические кратеры «с волютами» характерны для Греции конца эпохи архаики (Charbonneaux. 1962. Р. 59-60). Мастерские по их производству существовали в различных районах — Лаконике, Северном Пелопоннесе, Южной Италии (см.: Василев. 1988. С. 7-15). Письменные источники сообщают о практике посвящения подобных сосудов (часто изготовленных из драгоценных металлов) в панэллинские святилища, преимущественно по заказу восточных владык ( Hdt. I. 14, 25, 51 ), первым из которых называют Гигеса, царя Лидии (Theop. Fr. 219). Широко вывозились они и за пределы Греции. Всего известно 8 подобных сосудов и их фрагментов, причем все они были найдены на периферии античного мира. Как справедливо отметила по этому поводу Д. Стронг, «самые ранние из дорогостоящих металлических изделий архаической Г реции... либо делались по заказу восточных вла
335
дык для посвящения в храмы, либо для торговли на экспорт» (Strong. 1966. Р. 55). П. Уэллс отмечал, что находки бронзовых греческих кратеров характерны для так называемых «контактных зон» и как бы маркировали рубежи, которых достигла греческая цивилизация в конце архаической эпохи (Wells. 1980. Р. 53-54). Самым известным, большим и сложно украшенным из сосудов, относящихся к этой группе, является знаменитый кратер из Викса. Кратер же из Мартоноши представляет собой самую северо-восточную из подобных находок.
Фронтальные фигуры Медуз с парой змей в нижней части достаточно часто украшали ручки таких сосудов. Такие украшения имели ручки кратера из Южной Италии, хранящегося в Мюнхене ( Maass. 1979. S. 51 ), из этого же района происходят еще две подобных ручки, одна из которых находится в Лувре (De Ridder, 1915, II, η. 425), а другая — в Британском музее в Лондоне (Walters. 1899. Р. 85, п. 583). На наш взгляд, самыми выразительными из этой серии являются ручки кратера из погребения 8 в некрополе у с. Требенище в бывш. Югославии (Василев. 1988. С. 29. Рис. 2), головки змей на которых трактованы почти так же, как у змей на кратере из Мартоноши (Указ. соч. С. 41. Рис. 15). Правда, фигуры Медуз на всех приведенных выше аналогиях переданы погрудно, ноги их не показаны. Самую же близкую целостную аналогию позе нашей Медузы можно увидеть на ручке уже упоминавшегося выше кратера из Киликии, хранящегося в Лувре, где Медуза показана в той же позе «коленопреклоненного бега», что и на кратере из Мартоноши. На эту вещь, как на самое близкое Медузе из Мартоноши по художественным особенностям изображение, указал еще В. Мальмберг (Жебелев, Мальмберг. 1907. С. 50 сл.). Правда, на ручке из Лувра у ног Медузы помещены не змеи, а пара грифонов архаического типа. Позу, близкую позе Медузы из Мартоноши, можно также видеть на двух фигурках, в древности украшавших металлические сосуды, хранящиеся в Веймаре и Бостоне (Jantzen. 1937. taf. 32, nn. 132-133, 134).
Фигуры крылатых Медуз на ручках греческого кратера могли ассоциироваться в глазах представителей степной аристократии Северного Причерноморья с образами женского божества (божеств), характерными для туземного мира. В пользу этого соображения свидетельствует типологическое сходство Медузы на кратере и крылатого божества, в той же позе представленного на келермесском ритоне. Не исключено, что пара извивающихся змей у ног Медузы могла соотноситься в туземной среде с представлениями о «змееногом божестве» — персонаже генеологического скифского предания, известного по сообщениям письменных источников (Hdt., IV, 9; Diod., II, 43, 3). Не случайным представляется и включение этого сосуда в какие-то ритуальные действия, связанные с основным погребением скифского кургана.
336
Все прочие обнаруженные в лесостепи предметы античного импорта архаического времени, украшенные женскими изображениями, относятся к концу VI — началу V в. до н. э. Они немногочисленны и также представлены металлическими изделиями — зеркалами и посудой.
К ним принадлежит бронзовое зеркало из кургана 3 у с. Аксютинцы с рельефным изображением маски Медузы на конце ручки. Курган входил в состав большого курганного могильника в урочище «Стайкин Верх» на высоком берегу р. Сулы (Самоквасов. 1892. С. 32. № 1541; Ильинская. 1968. С. 28-29). Зеркало входило в состав «богатого» впускного парного погребения кургана, оно лежало в ногах женского костяка, рядом с кусками краски и бусами (сердоликовыми, хрустальными, янтарными, пастовыми). На конце ручки помещено круглое изображение маски Медузы с обнаженными зубами и высунутым языком. Зеркало датируется концом VI — началом V в. до н. э. (Онайко. 1966. Кат. № 223. Табл. XIX, 4). 3. А. Билимович относит это зеркало к зеркалам «смешанной группы» плоских зеркал (Билимович. 1976. С. 39-40). Очень похожее зеркало было найдено в зоне степей, в кургане 4 Елизаветовского могильника на нижнем Дону (упоминавшееся выше).
К группе зеркал с боковыми ручками, украшенными женскими изображениями, относится зеркало, обнаруженное в кургане ус. Волковцы (Онайко. 1966. Кат. № 224. Табл. XIX, 6). Обнаженная женская фигура в верхней части ручки «поддерживает» диск, в медальоне на конце ручки помещена фигурка сфинкса. Эта вещь относится к началу V в. до н. э.
Зеркало с горгонейоном на конце ручки, очень похожее на зеркало из с. Аксютинцы, было найдено в Ольвии; отсюда же происходит ручка зекрала, аналогичная ручке зеркала из с. Волковцы, что позволило Б. В. Фармаковскому высказать предположение, что подобные зеркала производились именно в этой греческой колонии (Фармаковский. 1914. Табл. X, 3; XV. С. 27-30). Эту точку зрения разделяют и современные исследователи (Билимович. 1976. С. 40).
О начале проникновения в лесостепные районы целых серий греческих металлических изделий в начале V в. свидетельствует клад у с. Песчаное, обнаруженный в торфянике р. Супой Драбовского р-на Черкасской обл. (левый берег Днепра) в 1961 г. (Ганина. 1964. С. 135. Рис. 1-2; 1970. Рис. 1,42, 22-24). В состав этого клада, предположительно являвшегося грузом затонувшего судна, входило 15 бронзовых сосудов. В их числе — гидрия, основание вертикальной ручки которой было украшено фигуркой сирены, лутерий с изображением сирены под ручкой (рис. 26) и ситула с рельефным изображением головы Афины Паллады (Онайко. 1966. Кат. № 213; Ганина. 1970. Рис. 22, 23, 42,44).
Бронзовая гидрия, подобная гидрии из Песчаного, с очень похожим изображением сирены в основании ручки, была найдена в другом достаточно
337
удаленном от греческих центров Северного Причерноморья районе — лесостепном Подонье. Она происходит из погребения начала V в. до н. э. могильника у с. Мастюгино (Либеров. С. 28. Табл. 30, 6).
По сравнению с изображением на гидрии из Нимфейских курганов, изображения сирен на сосудах из Песчаного и Мастюгина несколько лучше проработаны, пальметки в основании фигур переданы менее схематично. Сирена на нимфейской гидрии имеет самый «женственный» облик, черты ее лица смягчены (ср. все три изображения: Ганина. 1970. Рис. 43-45). Возможно, этот сосуд, очень близкий по типу и декору двум предыдущим, все же относится к несколько более позднему времени.
В архаическую эпоху греческие мастерские налаживают выпуск и более дешевых бронзовых изделий, приспособленных для продажи на местном рынке. К таким изделиям, прежде всего, относятся так называемые «ольвийские зеркала». В. М. Скуднова, изучившая зеркала этой группы, пришла к выводу о том, что изготавливаться они могли в целом ряде античных центров (Скуднова. 1962. С. 8 сл.). В конце VI — начале V в. до н. э. эти зеркала в виде диска с боковой ручкой, украшенной фигурками оленя и пантеры либо заканчивавшейся головкой барана, были распространены на территории от Карпато-Дунайского бассейна до Урала (Кузнецова. 1991. С. 71 сл.; 2002. С. 144-212, карты 14-15). Химический анализ металла подтвердил гипотезу о существовании нескольких центров их изготовления; не исключена и возможность их производства ремесленниками лесостепи (Ольговський. 1992. С. 17).
Возможно, о начале производства отдельных изделий, близких стилистически изделиям в зверином стиле, позволяет судить известная находка фрагмента литейной формы конца VI в. до н. э. из раскопок Пантикапея. И. Д. Марченко реконструировала ее как изображение двух кошачьих хищников в геральдической позе (Марченко. 1962. С. 51). По ее мнению, пантикапейская форма представляла собой античную разработку композиции, заимствованной скифским искусством с Востока. Э. В. Яковенко полагала, что подобная схема также могла быть заимствована греками на Востоке и была связана с художественными бронзами Луристана и Каппадокии (Яковенко. 1976. С. 129). Особенности этой формы рассмотрены также в работе М. Ю. Трейстера, посвященной инновациям в производственных процессах эпохи поздней архаики (Treister. 1998. Р. 179-199).
Согласно гипотезе Э. В. Яковенко, в боспорских мастерских были изготовлены и бронзовые бляхи из кургана у с. Долинное в степном Крыму, относящиеся ко второй половине VI — рубежу V в. до н. э. ( 1976. С. 130-132).
Вот вкратце тот круг археологических источников, на основании которого можно судить об отличительных чертах начального периода взаимодействий между греческой культурой и варварским миром Северного Причер
338
номорья в сфере искусства. При всей его ограниченности можно говорить о том, что античный художественный импорт к концу этого периода освоил огромную территорию степной зоны от Приднестровья до Урала: на севере, в лесостепном Приднепровье, распространился до границ лесостепной и лесной зон.
При всем, на первый взгляд, достаточно незначительном воздействии античного искусства на искусство Скифии, создается впечатление органического проникновения греческого искусства в материальную (и духовную?) культуру туземных «народов», населявших самые разные области. Весьма символичным и характерным для эпохи в целом представляется чрезвычайно широкое распространение таких своеобразных памятников, как «ольвийские зеркала» — предметов, изготавливавшихся, очевидно, в самых различных центрах и пользовавшихся большим спросом. Эти находки позволили Б. Н. Г ракову в свое время сформулировать известную гипотезу о реальном существовании торгового (Граков. 1947. С. 23-38) и сакрального (Кузнецова. 1991. С. 87-88) пути на восток, о котором писал Геродот.
Уже для этой эпохи, очевидно, можно говорить о двух основных «направлениях» в процессе воздействия античного искусства на искусство северопричерноморских варваров: 1) инновации и трансформации в развитиии звериного стиля и 2) разработка и утверждение антропоморфных образов. Первое направление в рассматриваемый нами исторический период еще только намечается в виде совместных находок античных и местных зооморфных изображений, второе же представлено, на наш взгляд, более активно.
Отметим, что в архаическую эпоху изображения людей на предметах греческого импорта, проникавших в степную и лесостепную Скифию, представлены исключительно женскими персонажами. На изделиях, происходящих из Прикубанья, женские персонажи занимают доминирующее положение по отношению ко всем прочим (в том числе и антропоморфным) изображениям. Возможно, «восприимчивость» аристократической прослойки варварского общества именно к женским образам объясняется доминирующей ролью женских божеств в скифском пантеоне, о которой мы знаем на основании свидетельств Геродота (IV, 59).
Заметим также, что для этой эпохи не прослеживается никаких следов воздействия античного искусства на монументальную скульптуру Скифии. Скифские каменные изваяния были тогда распространены на чрезвычайно обширной территории — от Северного Кавказа до Добруджи — и являли собой серии строго канонизированных изображений (Белозор. 1986. С. 7-8; Білозор. 1994. С. 161 сл.; Ольговский, Евдокимов. 1994).
С относительно немногочисленными находками греческих архаических художественных изделий в контексте варварских памятников Северного
339
Причерноморья связан широкий круг проблем, на некоторых из которых мы кратко остановимся.
4.6. Хронологический аспект
Период времени, связанный с начальным этапом проникновения на территорию Скифии античных художественных изделий, рассматриваемых в данном разделе работы, можно разбить на два подпериода.
Первый из них соотносится с созданием и включением в комплексы Келермесских курганов серебряных зеркала и ритона. Это, несомненно, самые высокохудожественные, интересные и информативные находки в пределах всего периода. Они свидетельствуют, с одной стороны, о попытках осмысления греческими мастерами «своеобразия» местного варварского мира. С другой — активно «принимаются» аристократической верхушкой местного общества, входя в состав погребального инвентаря «царских» курганов Прикубанья. В эту эпоху здесь концентрировались самые «богатые» некрополи, содержавшие погребения скифской кочевой аристократии. Датировки келермесских зеркала и ритона совпадают с датой начального этапа организации на северных берегах Черного моря постоянных греческих поселений.
Эти вещи, с которых и началось знакомство варваров с художественными металлическими греческими изделиями, украшенными антропоморфными изображениями, так и останутся «исключительным событием» для всей эпохи.
Между датами этих предметов и распространением в варварском мире Северного Причерноморья основного потока греческих импортных изделий (в том числе и украшенных антропоморфными изображениями) наблюдается хронологический разрыв протяженностью около 100 лет. Изделия, начавшие проникать на территорию Скифии в конце эпохи, можно отнести к группе «чистого импорта». Они появляются практически одновременно, во второй половине — конце VI в. до н. э., в степном и лесостепном Приднепровье. К концу периода греческие импортные изделия, украшенные антропоморфными (женскими) изображениями, встречаются в памятниках степного и лесостепного Подонья.
Для конца рассматриваемого периода фиксируется начало серийного выпуска относительно дешевых изделий, находивших сбыт и в туземном мире Северного Причерноморья.
4.7. Проблема источников распространения культурных импульсов
Соотнесенность целого ряда памятников со степными и лесостепными областями Южного Буга и Днепра, приводит к выводу о том, что большинст
340
во изделий из категории «чистого импорта» поступало в варварский мир из греческих центров Нижнего Побужья (Березань, Ольвия). В пользу этого вывода свидетельствуют и находки в Ольвии фрагментов бронзовых зеркал, аналогичных тем, которые были найдены в туземных памятниках.
Для рассматриваемого периода мы почти ничего не можем сказать о роли греческих поселений Северо-Восточного Причерноморья в сфере контактов между греческим искусством и искусством Европейской Скифии, хотя теснейшая связь этих поселений с туземным миром Северного Причерноморья представляется в эту эпоху достаточно очевидной.
Загадочным и дискуссионным остается вопрос о центрах производства (и источниках распространения) самых ярких памятников эпохи — келермесских зеркала и ритона. Удревнение их датировок делает маловероятным предположение М. И. Максимовой о возможном их изготовлении в Боспорских мастерских (Максимова. 1954. С. 304). Мы придерживаемся версии, согласно которой обе эти вещи были, с большой степенью вероятности, изготовлены греческим мастером (или мастерами) в восточной части греческого мира (возможно, в Ионии). Однако нельзя полностью исключать и возможность их изготовления в одном из греческих поселений Нижнего Побужья. Реальная ситуация могла быть и еще сложнее — например, зеркало и ритон могли быть сделаны греческим мастером, работавшим (временно или постоянно) при ставке скифского вождя. Последнее предположение (достаточно фантастическое, но все же вероятное) логичнее всего объясняет сочетание греческих (преобладающих), «восточных» и «скифских» элементов в их декоре.
Итак, как мы пытались показать, время со второй половины VII по первую четверть V в до н. э. в силу ряда особенностей, присущих греческому архаическому искусству и искусству Скифии, а также общей ситуации, сложившейся в Северном Причерноморье, очевидно, было чрезвычайно благоприятным периодом для развития культурных контактов. Следы этих контактов прослеживаются на огромной территории. К концу этого периода были как бы намечены основные направления в сложном процессе взаимодействия между эллинским искусством и развитием искусства северопричерноморских варваров.
5. Вторая четверть — конец V в. до н. э.
В начале V в. до н. э. в материальной культуре степной и лесостепной зон Северного Причерноморья фиксируется целый ряд явлений, свидетельствующих о глобальных переменах в этнокультурной ситуации, сложившейся в регионе в предшествующий период. А. Ю. Алексеев считает последние десятилетия VI — начало V в. до н. э. рубежом, разделявшим две археологи
341
ческие культуры Скифии — древнюю и новую (классическую); в это время в скифской археологической культуре Кавказа и Северного Причерноморья складывается новый вещевой комплекс, формирование которого, по-видимому, связано с проникновением на эти территории с востока новой группы номадов. Время с первой по третью четверти V в. этот исследователь предлагает считать периодом становления нового скифского общества, для которого были характерны междоусобицы и враждебные отношения с греческими центрами (Алексеев. 1992. С. 7, 118 сл.).
Согласно нашей периодизации, время с начала второй четверти до последней трети V в. характеризуется усилением кочевого скифского элемента, не всегда миролюбиво настроенного по отношению к античным центрам.
Скифские памятники, отражающие греко-варварские связи (и контакты в сфере искусства), для этой эпохи в зоне степей крайне малочисленны; самые яркие из них сконцентрированы на восточных рубежах Скифии, в Подонье и Предкавказье.
5.1. Нижнее Подонье
В Нижнем Подонье в начале второй четверти V в. возникают Елизаветовское городище и могильник, самые ранние погребения которого относятся к концу первой — началу второй четверти столетия (Брашинский. 1976. С. 101 сл.). Из кургана 1 этого некрополя происходит древнейшая из найденных в регионе панафинейских амфор, датирующаяся 430-425 гг. до н. э. (Beazly. 1943. Р. 453; Брашинский. 1976. Рис. 3). В целом для погребений этого могильника отмечен высокий процент греческой керамики (Брашинский. 1976. С. 99). Расписные сосуды из Елизаветовского могильника украшены изображениями на следующие сюжеты: вакхическая сцена (женщина в развевающихся одеждах и сатир, фигуры даны силуэтом, изображения нечеткие); сидящая женщина с зеркалом в руке, перед ней — служанка; сова; лебедь; растительный и геометрический орнамент (2 экз.).
5.2. Прикубанье
Для района Предкавказья наиболее выразительными памятниками, отражающими греко-варварские взаимодействия, являются знаменитые Семибратние курганы, наиболее ранний из которых, № 4, скорее всего, относится ко второй четверти — середине V в. до н. э. (Горбунова. 1971. С. 20). Своеобразие их погребального инвентаря позволяет ставить вопрос о локальных чертах звериного стиля Прикубанья в V в. до н. э.; возможно, эта область входила в сферу влияния искусства Ахеменидского Ирана (Переводчикова. 1987). Для этого времени в сложении местного варианта звериного стиля прослеживается ряд инокультурных импульсов, в их числе Е. В. Пе-
342
реводчикова называет и т. н. «греко-персидские» ( 1992. С. 56). Как показала H. Л. Грач, комплексы произведений звериного стиля из этих памятников во многом уникальны; на примере конкретных произведений можно проследить причудливые сочетания традиций греческого и восточного искусства (Грач. 1984. С. 105). Так, например, две золотые обивки из 4 Семибратнего кургана (около середины V в. до н. э.) со сценами терзания зайца грифоном и козла львиноголовым грифоном выполнены с явным преобладанием греческих элементов. В треугольной пластине-оковке ритона с рельефным изображением льва, напавшего на оленя, греческое влияние лишь намечено в декоративном решении формы рогов оленя.
Отказ от условной моделировки тела в пользу более реалистической (поверхность тела животного показана в низком рельефе), появление удлиненной формы глаза, растительного орнамента и «ажурности» в трактовке рогов животных, которые можно видеть на вещах из этих комплексов, обычно приписывают влиянию античного искусства (Коровина. 1957. С. 183-185; Переводчикова. 1987. С. 44, 50).
Среди предметов греческого импорта из Семибратних курганов отметим серию серебряных аттических киликов с гравированными изображениями, датирующимися в пределах 80-30-х гг. V в. (Горбунова. 1971. С. 19 сл.). Самый ранний из них происходит из 4 Семибратнего кургана и относится ко времени ок. 470 г. до н. э. На его внутренней поверхности в центральном медальоне изображена фигура крылатой богини (Ники), сидящей на невысоком сиденье с резными ножками. Крылья богини широко распростерты, в руке она держит чашу, собираясь совершить возлияние (рис. 32.3). К. С. Горбунова, посвятившая этим сосудам специальную работу, обратила внимание на необычность позы и атрибутов Ники и полагала, что здесь представлен малораспространенный вариант мифа (Указ. соч. С. 22). Однако, на наш взгляд, фиала в руке божества — атрибут достаточно распространенный и нередко встречающийся в греческой вазовой живописи. Например, изображения летящей Ники с чашей в руке можно видеть на ранних краснофигурных лекифах Берлинского мастера и мастера Тифона (Boardman. 1975. Pl. 159, 213). Иное дело — поза божества. Изображение сидящей в профиль Ники с распростертыми крыльями, очевидно, действительно можно отнести к числу редких. Именно этот тип изображения женского божества — сидящего в профиль на кресле-троне, будет разрабатываться на изделиях греко-скифской торевтики позже, в IV в. до н. э.
В раннеклассическое же время, как нам кажется, изделия с изображениями крылатого женского божества, подобными тем, которые украшали ритон и зеркало из Келермеса, продолжали успешно «вписываться» в контекст культуры варваров, входя в состав погребального инвентаря захоронений местной аристократии.
343

Рис. 32. 1 — бляшка из кургана Чертомлык; 2 — изображение на щитке «перстня Скила»; 3 — изображение в медальоне дна серебряного кили ка из Семибратнего кургана; 4 — рельеф из Вилла Альбани
К вещам чисто греческих форм относится и бронзовое зеркало из 6 Семибратнего кургана, имевшее гравированные изображения пантер и оленя на диске (ОАК за 1875 г. С. 33). 3. А. Билимович полагала, что зеркало было украшено скифским мастером (Билимович. 1974. С. 44. Кат. № 30), однако передача пятнистых шкур пантер врезанными точками, не характерная для скифского искусства, допускает и иные толкования. Интересна и трактовка пальметки в основании боковой ручки — уникальный для изделий этой группы растительный побег придает пальметке вид дерева или куста. Такое гипертрофированное «разрастание» растительных мотивов можно увидеть на некоторых произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э., речь о которых пойдет ниже.
344
5.3. Северное Причерноморье. Степная зона
К началу периода принадлежит яркая находка, сделанная на территории Добруджи и имеющая непосредственное отношение к теме данного раздела, — знаменитый «перстень Скила» второй четверти V в. до н. э., на щитке которого изображена сидящая в профиль женщина с зеркалом в руке (рис. 32.2) (Виноградов. 1980. С. 93. Рис.1). Перстень, возможно, принадлежал скифскому царю Скилу и, вероятно, его венценосному предшественнику Арготу (Там же. С. 92 сл.). На щитке этого перстня выгравировано изображение сидящей влево женщины, держащей в правой руке зеркало с боковой ручкой. Сюжет этот (сидящая на «троне» женщина с зеркалом и стоящий перед ней мужчина) будет популярен в IV в. до н. э. и широко представлен на золотых нашивных бляшках из «царских» захоронений. На связь этого изображения с формированием в скифском искусстве иконографического типа сидящей богини недавно обратил внимание Ф. Юнгер (Junger, 1997. S. 58-59).
В случае с «перстнем Скила» мы имеем дело с изделием греческого ремесленника, предназначенного для представителя местной аристократии (возможно, принадлежавшего к правящей династии), для украшения которого выбрано изображение, сюжет которого был, очевидно, связан с идеологическими представлениями варваров. В роли скифа, «предстоящего» перед женским божеством в схеме, известной по бляшкам IV в. до н. э., в данном случае выступал сам обладатель и «носитель» перстня.
В приднепровских степях о греко-варварских связях V в. до н. э. можно судить по инвентарю «богатых» скифских погребений в кургане Бабы, относящихся к концу второй четверти — середине столетия (Алексеев. 1992. С. 145) и Острой Томаковской могилы (впускное погребение). В числе памятников скифских аристократов, содержавших греческие художественные изделия и открытых в непосредственной близости от греческих центров Европейского Боспора, можно назвать Нимфейские курганы (Силантьева. 1959), раннее погребение в кургане Ак-Бурун, относящееся к середине — второй половине V в. Концом V в. до н. э. датируется впускное женское погребение в кургане Темир-Гора (№ 83), содержавшее набор женских украшений греческого производства (Яковенко. 1977. С. 140 сл.).
В литературе отмечалась стилистическая близость вещей из Семибратних и Нимфейских курганов (Ростовцев. 1925. С. 390 сл.; Силантьева. 1959. С. 90). Из Нимфейского кургана 2 и кургана Ак-Бурун происходят бронзовые нагрудные бляхи в виде оленя и свернувшегося хищника. Возможно, они являлись изделиями боспорских мастерских, особенно первая из них, олень на которой не похож на изображения классического скифского оленя; мастер, ее изготовивший, очевидно, лишь пытался воспроизвести традиционную схему (Яковенко. 1992. С. 85).
345
Примечательно, что бронзовые украшения уздечных наборов из Нимфейских курганов и Ак-Буруна «тяготеют» к более западным районам Приднепровской лесостепи не только стилистически (Силантьева. 1959. С. 71 сл.). но и по химическому составу металла (Барцева. 1980. С. 89).
На наш взгляд, воздействие греческого искусства на развитие звериного стиля Северного Причерноморья в V в. до н. э. наиболее ярко отражено в двух памятниках торевтики — знаменитой золотой бляхе в виде лежащего оленя из Куль-Обы (рис. 20) и фризе золотой обкладки колчана из кургана у с. Ильичево (рис. 33). Эти вещи возникли в результате освоения и переработки греческим искусством основных схем скифского звериного стиля и свойственных его ранней стадии «зооморфных превращений». В итоге изобразительное поле обеих вещей получилось чрезвычайно насыщенным дополнительными образами. Бросается в глаза и натуралистичность изо-
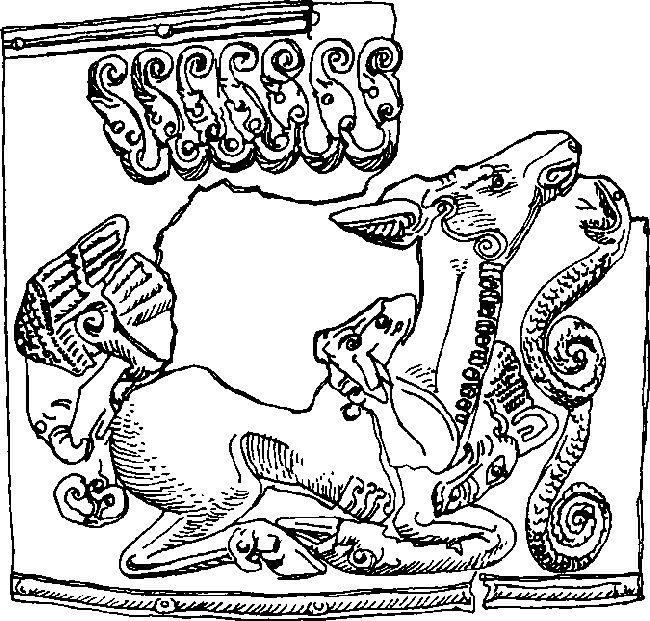
Рис. 33. Золотая бляха из кургана у с. Ильичево
346
бражений. В отличие от классической схемы скифского «летящего» оленя, изображавшегося строго в профиль, с двумя подогнутыми ногами, олень из Куль-Обы имеет четыре конечности, спина его прогнулась под тяжестью рогов. Вещи получились слишком усложненными, потерявшими пластичность, по сравнению с более лаконичными и выразительными памятниками предшествующего времени.
Кратко остановимся на чрезвычайно выразительном комплексе из крымского погребения № 6 в кургане 1 у с. Ильичево, проанализированного А. М. Лесковым (Лесков. 1968), в котором ярко отразились «инновации» нового периода. Скифское погребение было впускным в насыпь более раннего времени; для этого захоронения курганная насыпь была специально подсыпана (Указ. соч. С. 158). С этим погребением связана находка золотых «ворварки», четырехгранной в сечении гривны и более десятка золотых пластин разного размера. Среди пластин примечательны две. Одна из них, нашивная, несомненно, является результатом яркого эксперимента. В центре ее — схематичное изображение головы копытного, сочетающее черты лося и оленя; ее украшают странным образом стилизованные головки хищных птиц. Ниже — два ряда головок хищных птиц, также весьма «сухих» и схематичных; справа — две восьмилепестковые розетки (Указ. соч. Рис. 5). А. М. Лесков справедливо указал на аналогии этим мотивам и отдельным стилистическим приемам из Журовских курганов в лесостепи (Указ. соч. С. 164-165). Вторая пластина представляет собой фриз, некогда украшавший колчан для стрел (Указ. соч. Рис. 6). На ней изображен олень «в противоборстве» с тремя «терзателями» — львом, орлом и змеей (рис. 33). А. М. Лесков отметил некоторые черты, сближающие эти изображения с комплексом IV Семибратнего кургана, и заметил, что образ змеи, присутствующий в композиции пластины, является необычным для скифского искусства, но находит аналогии в искусстве греческом ( Указ. соч. С. 165). В целом в композиции этой пластины заметна не только «перегруженность» в репертуаре «участников», но и сочетание чрезвычайно разнородных элементов, находящих аналогии и в Лесостепи, и в Прикубанье, и в Подонье, и в греческом мире. Погребение у с. Ильичево — наряду с Ак-Мечетским и Золотым курганом (см. также: Артамонов. 1966. Табл. 72) — входит в группу из 3 «царских» скифских погребений V в., известных на территории Крыма. Дата его определяется в пределах первой половины столетия (Указ. соч. С. 163).
Знаменитая золотая пластина с изображением оленя из кургана Куль-Оба в Крыму (рис. 20), выполненая в похожей манере, сравнительно недавно была передатирована и отнесена к кругу древностей V в. до н. э. (Королькова, Алексеев. 1994). К кругу шедевров греко-скифской торевтики этого периода, перенасыщенных дополнительными натуралистическими изобра
347
жениями и чрезмерно «утяжеленных», относится и нащитная бляха в виде рыбы из комплекса Феттерсфельде в Западной Польше (Greifenhagen. 1982; Королькова, Алексеев. 1994. С. 103)
Еще М. И. Артамонов высказал предположение, что куль-обский олень был изготовлен на Боспоре ( 1968); там же, скорее всего, была изготовлена и золотая обкладка из кургана у с. Ильичево (Лесков. 1968. С. 165). Н. А. Онайко высказала гипотезу, связывающую производство золотых обкладок скифских парадных мечей (Томаковка, Золотой, курган у хут. Шумейко) с мастерскими Боспора ( 1966а). К парадному оружию относятся и ножны из кургана у с. Александровка (Мурзин. 1984. С. 28-29. Рис. 15). Самые ранние образцы парадного вооружения происходят из Томаковской могилы и погребения у хут. Шумейко и относятся к первой четверти V в. до н. э. (Алексеев. 1991; 1992. С. 114; 2003. С. 201).
5.4. Северное Причерноморье. Лесостепь
«Археологическое запустение», фиксируемое для степной зоны Северного Причерноморья V в. до н. э., не прослеживается для территорий лесостепи. Своеобразие вещевых комплексов лесостепных могильников V в. до н. э. позволило исследователям выделить для этого времени локальные варианты скифской культуры лесостепной зоны (Шкурко. 1975). С начала V в. до н. э. заметны и перемены в составе «бестиария» скифского звериного стиля, например, из него исчезает свернувшийся кошачий хищник, столь характерный для предшествующей эпохи, появляются и получают широкое распространение образы лося и волка (Алексеев. 1992. С. 108). Некоторые исследователи прослеживают и активное влияние степи на искусство лесостепной зоны в V в. до н. э. (Шкурко. 1969. С. 37). С зоной лесостепи связан ряд находок относительно простых и дешевых бронзовых изделий, предназначавшихся для украшения уздечных наборов, возможно, изготовленных греческими мастерами. Спектральный анализ бронз так называемых «орлиноголовых блях», распространеных в Приднепровской лесостепи в первой половине V в. до н. э. (Ильинская. 1968. С. 78), показывает наличие лигирующей примеси сурьмы, употреблявшейся в бронзолитейных мастерских Ольвии и ее округи; к продукции этих мастерских можно отнести и некоторые другие мелкие бронзовые украшения в зверином стиле из курганов Посулья (Косиков. 1992. С. 71 сл.). Исследования В. А. Косикова показали, что примерно 4% проанализированных им изделий из курганов бывш. Роменского уезда тяготеют к греческим мастерским Нижнего Побужья.
Несомненно, с этими же центрами связано и производство крестовидных блях конца VI — начала V в. до н. э., также предназначавшихся для украшения конской упряжи (Капошина. 1956. С. 173 сл.; Шкурко. 1969. С. 37). Интересно, что это, кажется, единственная категория вещей этого времени,
348
сохранившая тип свернувшейся скифской «пантеры»; причем на бляхах из кургана ус. Басовка в своеобразном, более реалистично переданном положении передней ноги кошачьего хищника иногда видят следы античного влияния (Шкурко. 1969. С. 36).
Очевидно, под влиянием античных образцов в изделия местных мастеров того времени проникают некоторые чисто греческие орнаментальные мотивы. Так, например, на целом ряде изделий в зверином стиле начиная с первой половины V в. до н. э. можно видеть нечто, напоминающее античную пальметку. Такие изображения помещены на золотых обивках чаш из I Завадской могилы (Мозолевский. 1979. Рис. 47.2-3), на бронзовых бляшках из Поросья (Ковпаненко, Бессонова, Скорый. 1989. Рис. 28.3-5). Изображение, отдаленно напоминающее пальметку с волютами, можно заметить и на конских нащечниках (Указ. соч. Рис. 28.11 ). Возможно, влиянием греческого искусства можно объяснить и трактовку глаз хищных птиц в виде розеток (Указ. соч. Рис. 32.7,9,14), и различные эксперименты в трактовке рогов оленя. Наиболее выразительной, на наш взгляд, является бляшка из кургана 401 у с. Журовка, на которой рога оленя показаны в виде вертикального стержня с насечками, увешанного с двух сторон предельно стилизованными композициями типа «глаз и клюв», напоминающими восьмерки (Указ. соч. Рис. 32.11).
В целом, однако, отметив кардинальные перемены в облике региона в V в. до н. э., мы не можем зафиксировать какие-либо значительные изменения или переломные моменты в сфере взаимодействия эллинского и скифского искусства. Создается впечатление, что для этого времени можно говорить о некотором общем «ослаблении интереса», по сравнению с эпохой архаики, к антропоморфным образам. Взаимодействия между греческим и варварским искусством прослеживаются, в основном, в области звериного стиля: в это время происходит разработка, развитие отдельных тенденций, намеченных в предшествующую эпоху. Создается впечатление, что в течение V в. до н. э. греческое искусство продолжало осваивать основные схемы и приемы скифского звериного стиля.
С самого начала V в. до н. э. фиксируются следы интенсивной работы боспорских мастерских. Для столь сложной эпохи символичным является начавшееся здесь изготовление ножен для парадных мечей номадов: это единственная категория изделий греко-скифской торевтики, предназначавшаяся для аристократической прослойки варварского общества, для которой в это время можно отметить начало серийного производства (Онайко. 1966а). Интересно, что все эти находки происходят из степного и лесостепного Приднепровья — района, который, несомненно, контролировался главенствующей кочевой ордой. Начавшееся производство вещей такого рода, возможно, указывает на усиление в самом начале V в. контактов Боспора
349
(или же дипломатическую активность этого политического образования), направленных на установление дружественных отношений с господствующими в степях кочевниками.
Для V в до н. э., кроме воздействия античного искусства на скифский звериный стиль, выразившегося в развитии реалистических тенденций и некоторых орнаментальных мотивов («скифское барокко»), отмечают еще воздействие греческого монуметального искусства на иконографию степных скифских каменных изваяний (Шульц, Навротский. 1973. С. 203-204; Белозор. 1986. С. 8; Ольховский. 1990. С. 108). Мы, вслед за Д. С. Раевским (1983. С. 12 сл.), считаем, что такие специфические древности, как скифские каменные изваяния, в VI-V вв. до н. э. представляли собой строго канонизированную изолированную группу памятников, требующую специального подхода к ее исследованию. Наличие этих произведений не может изменить общего представления о том, что для эпохи архаики искусству варваров Северного Причерноморья изображения людей были несвойственны и, вероятно, достаточно чужды.
Лишь в самом конце столетия греческие изделия, украшенные антропоморфными изображениями и специально изготовленные для сбыта варварам, начинают встречаться в местных комплексах. К таким изделиям, возможно, принадлежат бляшки из кургана Куль-Оба с изображением скифов, которые отдельные исследователи иногда относили к концу V в. (Копейкина. 1986. С. 38 сл. № 2-5), а также вещи из раннего комплекса Солохи (впрочем, относительно датировки последнего в литературе не существует единого мнения. См.: Манцевич. 1987. С. 121; Алексеев. 1992. С. 146).
Отметив занимающую более чем столетие лакуну в восприятии туземным обществом антропоморфных персонажей, воплощенных в памятниках античного искусства и, соответственно, в развитии подобных изображений в греко-варварском искусстве, можно высказать предположение, что это явное «ослабление интереса» к разработке подобных сюжетов, очевидно, объясняется кардинальными переменами в общей ситуации, разрывом традиций, сложившихся в предшествующее время.
В заключение этого краткого раздела, посвященного довольно длительному «переходному» периоду между двумя основными выделенными нами эпохами, связанными с влиянием греческого искусства на развитие искусства Европейской Скифии, которыми являются VII—VI и IV вв. до н. э., хочется упомянуть чрезвычайно выразительный памятник, имеющий некоторое отношение к нашей теме, на основании которого, в частности, можно судить о трактовке образа «варвара» в античном искусстве этого периода. Это — известный мраморный надгробный рельеф, найденный недалеко от Ольвии, в свое время реконструированный и изданный Б. В. Фармаковским ( 1915). На одной из его сторон изображен обнаженный юноша с копьем в ру
350
ке, на другой — варвар в штанах и куртке, со скифским горитом и стрелой в руке. Памятник датируется 470 г. до н. э. (Кобылина. 1972. С. 6). Вслед за Ю. Г. Виноградовым, предложившим новую реконструкцию сохранившейся на надгробии надписи (Виноградов. 1986. С. 88-89), мы склонны видеть на этом памятнике изображение амазонки. Этот исследователь справедливо оценил фигуры на надгробии как символ новой, сложной и напряженной эпохи и считал, что представленные здесь персонажи — греческий юноша-воин и амазонка — выражают идею противостояния двух миров — эллинского и варварского. То обстоятельство, что в качестве образа, как бы символизирующего варварские «народы» Скифии, на этом памятнике фигурирует женщина-амазонка, представляется чрезвычайно выразительным. Распространению этого образа в греко-варварском искусстве региона в IV в. до н. э. мы уделим внимание в следующем разделе работы.
6. IV в. до н. э. — эпоха расцвета греко-скифской торевтики
IV в. до н. э. был принципиально новым периодом в истории взаимодействий между античным искусством и искусством варваров Северного Причерноморья. Новая эпоха, эпоха одновременного расцвета греческих северопричерноморских колоний и Европейской Скифии (Ростовцев. 1912. С. 107-110; 1925. С. 303 сл.), очевидно, была благоприятна и для экспериментов в сфере искусства.
ВIV в. до н. э. археологическая карта варварских памятников, вещевые комплексы которых дают возможность судить о взаимодействии греческого и варварского искусства, еще раз претерпевает значительные изменения. Ярче всего они проявились в Приднепровье: для IV в. до н. э. в зоне степи известны многочисленные «царские» курганы и рядовые могильники номадов; в лесостепной зоне прекращают существовать многие городища и могильники предшествующей поры (Ильинская, Тереножкин. 1983. С. 252, 315). По общему объему и качеству античного импорта в IV в. до н. э. степная зона впервые опередила лесостепь.
На Боспоре, как было отмечено выше (см. гл. V), «царские» курганы IV в. до н. э. концентрировались в окрестностях Пантикапея на Европейском Боспоре и Фанагории на Азиатском: их топография соответствовала структуре единого Боспорского государства, сложившегося при Спартокидах.
Если для двух предшествующих эпох мы располагали возможностью более или менее подробно останавливаться на всех категориях древностей, свидетельствующих о взимодействии греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья, то для последнего периода в ис
351
тории этих взаимодействий характерно такое изобилие источников, что мы вынуждены затронуть лишь, на наш взгляд, важнейшие из них.
В результате даже самого поверхностного обзора художественных металлических изделий, производившихся греческими мастерами для сбыта варварам, создается впечатление, что в IV в. до н. э. греческая торевтика поставляла в туземное общество буквально все важнейшие категории традиционных скифских вещей (или их украшения). Для этого времени фиксируются даже попытки декорирования таких громоздких и малохудожественных по своей идее предметов, как бронзовые котлы. Так, например, бронзовый котел из кургана Раскопана Могила, относящийся ко второй — третьей четвертям столетия (Алексеев. 1992. С. 152), был, возможно, изготовлен мастером-греком. Тулово котла было разделено на три орнаментальных пояса (подобное трехчленное деление вещи, несомненно, было связано с бытовавшими в Скифии представлениями об устройстве вселенной), изобразительное пространство было украшено элементами декора, широко распространенными в греческом искусстве.
К сожалению, в рамках данного раздела нам не удастся остановиться на целом ряде интересных проблем, связанных со взаимодействием греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья в IV в. до н. э., таких, например, как развитие образа «скифского Геракла», стиля «этнографического реализма», своеобразия монетных эмблем греческих центров этого региона и соотношения монетных типов с изображениями на памятниках искусства (см., например: Шелов. 1956; Карышковский. 1986; Шауб. 1991). Попробуем отметить лишь общие тенденции в сфере взаимодействия греческого и варварского искусства, уделяя основное внимание самым, на наш взгляд, важным памятникам и проблемам.
Принципиально новым моментом для этого времени является массовое производство в греческих центрах и сбыт варварам изделий, украшенных антропоморфными изображениями, не характерными изначально для туземного искусства. Более того, в конце этой эпохи фиксируются попытки создания произведений, украшенных подобным образом, и в варварском мире.
Отсутствие антропоморфных изображений в собственно скифском искусстве предшествующего времени некоторые исследователи объясняли тем, что на начальной стадии развития скифского общества человекоподобные божества не играли большой роли в религии скифов (Артамонов. 1971. С. 27). Однако факт присутствия в архаических памятниках Скифии изделий с антропоморфными изображениями, выполненными греческими мастерами, позволяет высказывать и другие суждения. Так, например, Д. С. Раевский полагал, что представления об антропоморфных божествах издавна бытовали в Скифии, а образы звериного стиля служили символами этих божеств (Раевский. 1978. С. 69-70). Длительное же господство зооморфных
352
образов в скифском искусстве этот исследователь объяснял более затрудненным заимствованием антропоморфных образов по сравнению с зооморфными. В образах звериного стиля Д. С. Раевский видел лишь символы, «знаки» скифских божеств; такие изображения были менее конкретизированы, не так жестко ограничивались канонами скифского искусства и относительно легко заимствовались из другой культурной среды (Раевский. 1983. С. 12 сл.).
Каковы бы ни были причины, вызвавшие в скифском обществе IV в. до н. э. потребность в подобных изображениях, возникший спрос на них удовлетворялся за счет изделий греческих мастеров, по мере возможности приспосабливавших свои изделия к представлениям, распространенным в туземной среде Северного Причерноморья. Так как в местном искусстве не существовало иконографических стереотипов, которыми бы смогли руководствоваться античные мастера, греческому искусству пришлось вырабатывать собственные концепции для воплощения божеств местного пантеона. Еще М. И. Артамонов отметил возможность лишь приблизительного соответствия греческих богов и их атрибутов и местных божеств (Артамонов. 1961. С. 59).
Давно и успешно ведется работа, связанная с «прочтением» сцен на шедеврах греко-скифской торевтики, выполненных в стиле «этнографического реализма». В них исследователи видят изображения важнейших мифов и ритуальных действий, связанных с идеологией аристократической верхушки скифского общества. Были предложены интерпретации для сцен и сюжетов, представленных на куль-обском и воронежском сосудах (Раевский. 1970), чертомлыцкой амфоре (Мачинский. 1978; Кузьмина. 1976; Раевский. 1985; Симоненко. 1987; Балонов. 1991), пекторали из Толстой Могилы (Мачинский 1978а; Раевский. 1978), ритона из кургана Карагодеуашх (Виноградов. 1993).
В настоящее время известно, что многие произведения античных мастеров, предназначенные для сбыта варварам, являлись репликами произведений греческого монументального искусства или же копировали более скромные изделия — монеты, резные камни. Так, А. П. Манцевич показала стилистическую близость всадников на золотом гребне и серебряной чаше из кургана Солоха и изображений на фризе Парфенона (Манцевич. 1987. С. 69, 91), Л. В. Копейкина связывала со всадником на фризе Парфенона и бляшку с изображением конного скифа из Куль-Обы (Копейкина. 1986. С. 38). Бляшки с изображением танцующих менад из этого же кургана, по мнению Л. В. Копейкиной, близки греческим рельефам V в. до н. э. и творчеству мастера Каллимаха (1986. С. 41). Известно, что из кургана Куль-Оба происходят знаменитые золотые подвески, которые считают репликой головы статуи Афины Парфенос Фидия и которые, скорее всего, являются изделиями аттических мастеров (Кобылина. 1972. С. 28. Табл. 2,1). По мнению
353
Н. А. Онайко, фигуры на пластине из с. Пруссы стилистически близки произведениям известного скульптора Лисиппа, работавшего во второй половине IV в. до н. э. (Онайко. 1970. С. 63). И. В. Ксенофонтова полагает, что мастера, изготовившего ритон с протомой Пегаса из VI Уляпского кургана, вдохновляли изображения восточного фриза Парфенона со сценой гигантомахии (Ксенофонтова. 1997. С. 60-77), М. Ю. Трейстер же считает, что некоторые фигуры, украшающие ритон, восходят к более ранним прототипам — изображениям на метопах Афинской сокровищницы в Дельфах (Treister. 2000. P. 99).
E. A. Савостина высказала предположение, что в каждой греческой мастерской, занимавшейся изготовлением предметов торевтики, обязательно работал профессиональный скульптор, моделировавший пластический декор (2001. С. 286).
В круге антропоморфных изображений эллино-скифской торевтики, известных для территории Северного Причерноморья, особое место занимают женские изображения. От мужских их отличает, как правило, высокая степень сакрализованности — женщины в греко-скифском искусстве не изображались в сценах «этнографического реализма» или среди бытовых реалий.
Попытаемся сопоставить некоторые известные изображения с памятниками античного искусства, начав с достаточно широко распространенных и тиражируемых схем.
К ним относятся изображения, представленные, в основном, на изделиях мелкой пластики — серьгах и нашивных бляшках. Последние в больших количествах встречаются в погребениях скифской аристократии IV в. до н. э. и принадлежат к категории материала, очевидно, достаточно широко распространенного в степном регионе.
Рассмотрим схему «сидящая в профиль женщина с зеркалом в руке и предстоящий скиф» на четырехугольных золотых бляшках, часто встречающуюся в составе инвентаря «царских» скифских погребений (рис. 32.1). К их числу относятся изображения, происходящие из курганов Куль-Оба, Чертомлык, Огуз, I Мордвиновский, Мелитопольский, Носаковский. На этих бляшках в левой части изображено женское божество в покрывале, восседающее на сиденье или троне с высокой спинкой. Перед ним с ритоном в руке предстоит варвар-скиф, изображение которого помещено справа (см., например: Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 257). Богиня на бляшках имеет большую голову, массивное тело. Мастер, создававший это изображение, явно хотел представить женщину «матронального» типа. Ее сидящая фигура по высоте соответствует стоящей рядом мужской. Такое нарушение пропорций, не характерное для греческого искусства, явно продиктовано вкусами варварской среды и подчеркивает важную роль богини в сцене (и ритуальном действии), изображенной на этом типе бляшек.
354
Рис. 34. Аттическое мраморное надгробие
Отдельные серии бляшек выполнены разными штампами; смазанный характер изображений на целом ряде из них показывает, что штампы использовались многократно, а возможно, и подновлялись (Копейкина.1986. С.42; там же см. ссылки на литературу, содержащую первые публикации бляшек этого типа). Массовость находок, наличие серии штампов для тиражирования бляшек с этим сюжетом свидетельствует о его большой популярности. Подробный анализ комплексов Чертомлыцкого кургана показал, что подобные бляшки связаны с основными, самыми богатыми погребениями этого памятника (северо- и юго-восточные камеры и камера № 5) (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 113. Кат. № 212). Вероятно, бляшки были нашиты на одежды, развешанные в кладовых (Указ. соч. С. 114).
В этой серии наиболее эллинизированный облик имеют бляшки из Чертомлыка и Куль-Обы; самый же «варваризированный» вид имеют изображения на бляшках из Мелитопольского и Первого Мордвиновского курганов (Тереножкин, Мозолевский. 1988. С. 136. Рис. 150; Онайко. 1976. Рис. 9г; Бессонова. 1983. С. 99. Рис. 23.2). Однако при всей огрубленности и нечеткости изображения здесь появляются новые детали, очевидно дающие возможность судить о развитии изображения, о его «жизни» в процессе тиражирования. У богини на этих бляшках более крупная, по сравнению с остальными изображениями этого типа, голова, головной убор становится выше (он явно акцентирован), укрупняется в размерах и зеркало в руках богини. Значительно увеличивается количество складок на одеянии божества, они переданы грубее и четче и придают одежде богини большую пышность и декоративность. На бляшках из Мелитопольского кургана ее широкая, выросшая в размерах юбка полностью скрывает ноги, смоделированные и «читающиеся» под складками хитона на всех прочих изображениях. Акцентирован и «трон», на котором восседает божество, — пространство между его ножками и спинкой покрыто рядом го-
355
ризонтальных линий. Комплект нашивных бляшек из Чертомлыка в целом датируется достаточно широко в пределах второй половины IV в. до н. э., однако отдельные серии, в том числе и бляшки рассматриваемого типа, относятся к ранней группе, нижний хронологический рубеж их бытования может достигать середины IV в. (350-320 гг. до н. э.) (Алексеев. 1986. С. 72).
Типу этих изображений, столь широко распространенных в «царских» курганах Великой Скифии, несложно найти аналогии в памятниках античного искусства классической эпохи, где профильные сидящие женские изображения были достаточно широко распространены. Так, например, целый ряд сидящих богинь украшает композицию восточного фриза Парфенона (Elderkin. 1936. Р. 93-94. Fig. 1). Сидящих женщин, с головой, покрытой покрывалом, можно видеть среди изображений «Саркофага плакальщиц» в Сидоне (Collignon. Р. 206-207. Fig. 131,132), на фризе сокровищницы сикионцев в Дельфах (Rodenwaldt. Taf. 33, 34а) и на «Троне Людовизи» (Ibid. Taf. 99).
Изображения сидящего в профиль божества и предстоящего человека можно найти на краснофигурной керамике, например, чаше работы Дуриса, в медальоне дна которой изображены сидящая Гера с фиалой в руке и стоящий перед ней Прометей (Boardman. 1975. Pl. 295.1). Сидящее в такой же позе божество (Ника) помещено в медальоне дна серебряного килика из 4 Семибратнего кургана, упоминавшееся выше. Однако, как нам представляется, тип сидящей на троне богини наиболее близок к композициям на греческих надгробиях, где умершие женщины часто изображались сидящими в профиль, с головой, закутанной покрывалом (см., например: Conze. 1900. п. 572. Р1. 114-115; Collignon. 1911. Р. 174. Fig. 103). Интересно, что на греческих погребальных памятниках можно увидеть и сюжетную аналогию композиции на скифских бляшках. Среди персонажей, предстоящих сидящим женским изображениям, на аттических надгробиях IV в. до н. э. нередко изображался муж умершей. Так, например, на надгробии Дамасистраты умершая женщина изображена сидящей в профиль, в покрывале, перед нею в кругу домашних стоит муж, которого она держит за руку (Collignon. Р. 143. Fig. 77). Похожая сцена представлена и на надгробии Теано (Boardman. 1975. Р. 135. Fig. 138).
Примечательно, однако, что наибольшую близость в трактовке изображения богини на скифских бляшках можно отметить среди изображений на греческих надгробиях, относящихся к более раннему времени. Женщины, изображения которых можно увидеть на этих памятниках, как и на бляшках из Северного Причерноморья, имеют большие головы и широкие лица; некоторое сходство можно отметить и в трактовке системы складок одежды. Подобные изображения можно видеть, например, на стелах из Национального музея в Афинах, относящихся к середине V в. до н. э. (рис. 34) (Bie-
356
santz. 1965. Taf. 1, к 54; Taf. 2, к 10). Здесь, как и на бляшках, представлены матроны, а не молодые, изящные дамы, тенденция к изображению которых наблюдается на надгробиях более позднего времени.
Итак, тип сидящей женщины «матронального типа», с головой, окутанной покрывалом, представленный на скифских бляшках, имеет ближайшие аналогии среди изображений на античных надгробиях V в. до н. э., а схема «сидящая женщина и предстоящий мужчина» имеет сюжетные аналогии в композициях на греческих стелах IV в. до н. э.
Зеркало же в руке сидящей женщины в греческом искусстве чаще можно встретить на памятниках другого круга, хотя их изображения иногда помещались и на надгробиях (Hiller. 1975. Taf. 21, 1). Изображение сидящей на троне Афродиты с зеркалом в руке можно видеть на рельефе V в. до н. э. из Виллы Альбани (Hiller. Taf. 25). Встречаются профильные изображения сидящих женщин с зеркалами в руках и на аттических (Boardman. 1975. Pl. 175) и италийских (Green. 1986. Pl. 11,1; 23,5,6) краснофигурных вазах. Примечательно, что чернофигурный килик с изображением сидящей женщины с зеркалом в руке был найден в одном из курганов скифского Елизаветовского могильника на Нижнем Дону (Брашинский. 1976. С. 99. Рис. 2).
К начальному этапу формирования и распространения изображений этого типа в туземном мире Северного Причерноморья непосредственное отношение имеет находка так называемого золотого «перстня Скила», упоминавшегося выше. Это изображение как по своему типу, так и по связанным с ним представлениям оказывается наиболее близким именно к рассматриваемой серии бляшек, которые фиксируются лишь на территории Приднепровья.
Менее распространенный тип сидящего женского божества представлен на квадратных нашивных бляшках из кургана Чертомлык (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. Рис. 75, № 101; Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 258). 56 бляшек с этим изображением были найдены в северо-западной камере кургана и, очевидно, относились к украшениям головного убора (Алексеев, 1986. С. 68, №26). Богиня на бляшке, восседающая лицом к зрителю, имеет большую голову и крупные, грубо смоделированные черты лица (рис. 35). На голове у нее покрывало, вероятно, надетое поверх какого-то головного убора. Складки его спускаются на плечи богини, симметрично окутывая ее фигуру. Не существует единого мнения о том, в какой именно позе представлено божество. Было высказано предположение, что два больших треугольника в нижней части бляшки являются его огромными ступнями (Онайко. 1976. С. 170), однако, скорее всего, здесь изображена лишь верхняя половина тела (Бессонова. 1983. С. 99). Слева от богини можно увидеть фигуру «скифа» (переданную очень грубо и обобщенно). Справа же находится, по мнению большинства исследователей, жертвенник с горящим
357
огнем. Его изображение, хотя и выполнено чрезвычайно просто и состоит, по существу, из рельефных горизонтальных и вертикальных линий, проработано лучше, чем изображение скифа, предстоящего перед богиней. Жертвенник занимает в композиции почти такое же пространство, что и мужская фигурка, являясь, по всей вероятности, существенной и важной ее частью. Сюжет и композиция сцены, представленной на бляшках из Чертомлыка, достаточно самобытны и оригинальны. Огрубленный тип богини-матроны можно сопоставить, пожалуй, со схематичными изображениями богинь на греческих терракотовых статуэтках-протомах. Целая серия таких про-том, в том числе относящихся к классическому и раннеэллинистическому времени, происходит, например, из святилища на Майской Горе на Азиатском Боспоре (Марченко. 1974. Табл. 37-39). Местные типы этих протом (напр., табл. 37, 3, 4; табл. 38, 4; табл. 39, 5, 6) часто имели крупные, грубые, схематично переданные черты лица. А. П. Иванова в свое время обратила внимание на сходство в трактовке деталей между изображениями на погребальных боспорских памятниках местного производства и женских изображений на некоторых изделиях грекоскифской торевтики (Иванова. 1953. С. 33; 1961. С. 78-79). Правда, памятники эти, как правило, относятся к несколько более позднему времени — III—-I вв. до н. э. (Иванова. 1961. Табл. 32,34,35,37-40). Так, например, можно заметить некоторое сходство между богиней на бляшках из Чертомлыка и двумя надгробными статуями, найденными в ст. Сенная в 1871 г. (Иванова. 1961. Табл. 25, 26). К сожалению, обстоятельства находки затрудняют их датировку, однако не исключена их принадлежность к IV—III вв. до н. э. Обе эти скульптуры представляют собой строго фронтальные изображения женщин. Головы у обеих большие, лица круглые, одутловатые, черты лица грубые. На головах у обеих — головные уборы типа башлыков. Поверх этого убора у одной из женщин накинуто покрывало, а у другой — плащ. Трактовка складок хитонов, плаща и покрывала на обеих скульптурах отличается строгой линейностью и плоскостью.
Грубость, «варваризированность» изображения божества на бляшках, наличие лишь одного (известного нам) штампа для их изготовления, присутствие этих находок лишь в одной камере одного-единственного памятника — все это делает весьма вероятным предположение о том, что композиция на

Рис. 35. Золотая бляшка из кургана Чертомлык
358
бляшках этого типа была создана негреческим мастером. Находка их в основном погребении, принадлежность к головному убору, очевидно, свидетельствуют о чрезвычайной значимости этого образа в погребальном ритуале.
Химический анализ золотых бляшек из Чертомлыка показал, что по составу металла их можно разделить на две большие группы: первыя была изготовлена из высокопробного золота (958), а вторая — из низкопробного (292) (Алексеев. 1986. С. 72). Рассматриваемые бляшки с сидящей богиней принадлежат ко второй группе. Как нам представляется, это является дополнительным аргументом в пользу мнения о том, что штамп для изготовления этих бляшек вышел из рук местного мастера.
Достаточно широко распространенным, очевидно, являлся тип, представленный на золотых «серьгах» в виде фронтального изображения женского божества со львами по обеим сторонам (рис. 36. 1-3). Этот образ известен по изображениям на золотых подвесках, найденых в трех женских погребениях. Пара «серег» происходит из кургана Толстая Могила (Мозолевський. 1979. С. 134. Рис.117-118), одна была найдена в кургане № 2 у с. Любимовка Херсонской обл. (степное Приднепровье) (Петренко. 1978. Табл. 20,1), еще одна пара была обнаружена в кургане № 5 Мастюгинского могильника в Воронежской обл. (лесостепное Подонье) (Либеров. 1965. Табл. 36,27; Манцевич. 1973. С. 38. Рис. 11.2). Серьги однотипны (хотя изображения на них отличаются в деталях); вся серия датируется второй половиной IV в. до н. э. (Бессонова. 1982а. С. 20). Они изготовлены в одинаковой технике — на листовом золоте оттиснуто рельефное изображение, которое затем было вырезано по контуру.
Щитки подвесок выполнены в виде фигуры богини. Лицо у нее круглое, широкое, одутловатое, черты лица переданы схематично. Руки ее подняты кверху, непропорционально большие («бутонообразные», по описанию С. С. Бессоновой. Указ. соч. С. 23), кисти рук сливаются с головным убором типа калафа, напоминающим головной убор богини с «оленями» на бляхе из Александропольского кургана. Богиня одета в свободное одеяние (хитон) без рукавов. Из-под одежды выступают носки ног. На калафе богини из Любимовки изображены две горизонтальные черты, делящие ее головной убор на зоны, что находит соответствие в круге погребальных головных уборов, обнаруженных в могилах скифских цариц (Мозолевський. 1979. С. 202-203. Рис. 134; Клочко. 1982). К основанию щитка прикреплены подвески двух типов — амфоровидные и каплевидные. На любимовском экземпляре к рукам богини прикреплены на цепочках дисковидные подвески.
Отличительной особенностью этого типа изображений является пара львиных голов и лап, отходящих от одежды богини, головы животных с гривами и прижатыми ушами, переданные в профиль, как бы «вырастают» из ее пояса. Поэтому изображение обычно трактуют как изображение богини, вое-
359

Рис. 36. 1-3 — золотые подвески (1 — Любимовка; 2 — Толстая Могила; 3 — Мастюгино); 4-5 — мраморные скульптуры Кибелы; 6 — фрагмент терракотовой статуэтки из Мирмекийского зольника
360
седающей на двух львах (Петренко. 1978. С. 31; Бессонова. 1982а. С. 20). Однако хочется отметить, что такая трактовка образа вызывает определенные сомнения, так как подобная схема не характерна для памятников греческого искусства. Более того, ей не удается найти аналогий и в изобразительных памятниках Северного Причерноморья, Кавказа и Переднего Востока. Да и сама идея «восседания на двух львах» кажется весьма сомнительной. Возможно, в этом случае мы имеем попытку создания и воплощения некого женского образа, связанного со схемой «женщина и кошачьи хищники». И эти хищники как бы «вырастают» из изображений (в данном случае из юбок богини), подобно «оленям» на бляшке из Александропольского кургана, речь о которой пойдет ниже.
Самый «эллинизированный» и реалистичный вид богиня имеет на любимовской подвеске, выполненной наиболее тщательно (рис. 36.1). «Серьги» из Толстой Могилы отличаются большей схематизацией и сухостью форм; поза богини на них передана условно. Вместе с тем изображение на них четче и декоративнее (рис. 36.2). На подвесках же из Мастюгино можно увидеть явное развитие (а возможно, и переосмысление) первоначального типа: изменился головной убор богини, появилось нашейное украшение (гривна или пектораль), юбка укоротилась до колен, а ниже видны длинные штаны, как на мужских изображениях (рис. 36.3). По мнению В. Г. Петренко, мастер, изготовивший эти «серьги», соединил образ богини с каким-то мужским персонажем. Возможно также, что мы имеем здесь дело с попыткой создания изображения какого-то другого божества или героя (Петренко. 1978. С. 31-32).
С. С. Бессонова высказала предположение, что изображения на подвесках являются репликами какого-то объемного произведения (Бессонова. 1982а. С. 24). Эта исследовательница видела в богинях на подвесках изображения Владычицы зверей. Действительно, при взгляде на фронтальную фигуру богини с двумя львами по обеим сторонам вспоминается тип архаической Артемиды. С другой стороны, этот тип имеет несомненную связь с изображениями Кибелы со львами, сидящей на троне, известными в IV в. до н. э., а также в эллинистическое и римское время. Полагают, что тип Кибелы на троне с двумя львами по сторонам восходит к культовой статуе, воздвигнутой в афинском Метрооне в последней четверти V в. до н. э. (Саверкина. 1986. С. 130). Небольшие вотивные скульптуры, восходящие к этому оригиналу, производились в Аттике и Малой Азии. Изображение именно пары львов более свойственно малоазийским изделиям; на изготовленных в этом регионе скульптурах и терракотовых статуэтках Кибела чаще изображалась в калафе, а не в толосе (рис. 36.5) (Указ. соч. С. 131). Примером подобного изображения этой богини может служить небольшая мраморная вотивная статуэтка из Эрмитажа (Указ. соч. Кат. № 54). Однако существо
361
вал и другой тип изображения сидящей Кибелы — со львом на коленях, также представленный в эрмитажном собрании (рис. 36.4) (Указ. соч. № 56). Этот тип можно встретить и на терракотовых статуэтках, найденных при раскопках Ольвии (Леви. 1970. Табл. 16,1,3,5,6; Табл. 17; Табл. 18,1,2; Русяева. 1979. С. 106. Рис. 51. С. 107. Рис. 52), поселений Европейского (Денисова. 1981. Табл. VI, б, ж) и Азиатского (Кобылина. 1974. Табл. 24,9) Боспора. Эти статуэтки, в ряде случаев датирующиеся несколько более поздним временем, повторяют устойчивый тип, распространенный в греческой коропластике в классическое время (см.: Денисова. 1981. С. 35-37).
Жест богини, поднимающей руки к головному убору, не характерен ни для изображений архаической Артемиды, ни для изображений Кибелы. С. С. Бессонова называла эту позу «позой оранты или моления» и приводила ей аналогии в круге памятников Кавказа и Передней Азии (Бессонова. 1982а. С. 28 сл.; 1983. С. 92 сл.). Приведем этому жесту еще одну аналогию. В подобной позе в изделиях античной коропластики часто изображались персонажи, несущие что-либо на голове. Такой жест можно видеть, например, на фигурках канефор — дев, несущих на головах корзины с культовыми предметами, найденных при раскопках Мирмекийского зольника и относящихся к концу IV — первой половине III вв. до н. э. (рис. 36.6) (Денисова. 1981. Табл. 6, з, д; Гайдукевич. 1987. С. 83. Рис. 104). Заметим, что изображения корзин на этих статуэтках были переданы крайне схематично и вполне могли трактоваться в варварском мире как сложные головные уборы.
Таким образом, на этой серии подвесок мы видим достаточно сложное, «синкретическое» изображение, в иконографии которого с образом местного божества были соотнесены черты архаической Артемиды, а также типа сидящей на троне Кибелы, характерного для позднеклассического и эллинистического времени. Изображения на трех парах «серег», демонстрируя несомненную близость и принадлежность к одному типу, не повторяют друг друга. Каждое из них имеет свои характерные отличия, заключающиеся как в общем характере изображения, так и в его деталях. По-видимому, здесь мы имеем дело с «живой» линией развития этого типа в варварской среде. Особенно интересны, конечно, экземпляры из Мастюгина — наиболее удаленного от античных центров памятника. И. В. Яценко полагала, что «серьги» эти, так же как и любимовские, вышли из рук туземных, а не греческих мастеров (Яценко. 1971. С. 136). Это мнение представляется нам вполне обоснованным.
Особую группу женских изображений в греко-скифской торевтике представляют изображения «прорастающих» — изображения, в которых более подчеркнуты и разработаны растительные мотивы в нижней части. Эти черты можно увидеть на терракотовой пластинке из слоя Херсонесского городища IV—III вв. до н. э. (Пятышева. 1947. С. 213), известняковой плите из
362
Херсонесского некрополя (Косцюшко-Валюжинич. 1907. С. 140. Рис. 30), резной костяной пластине из гробницы 4 кургана Гайманова Могила (Бідзіля. 1971. С. 49 сл.; Яковенко, Бидзиля. 1979. С. 457сл. Рис. а,б). Любопытной параллелью этим крылатым персонажам с гипертрофированной растительностью в нижней части тела может служить терракотовая форма для оттиска статуэток в виде сирены, найденная при раскопках Фанагории, подробно изученная М. М. Кобылиной (Кобылина. 1967; 1974. Табл. 35,4). Как показала эта исследовательница, подобные изображения, восходящие к аттическим надгробиям, были широко распространены в античном мире в эпоху эллинизма. Отметим, однако, что от всех приведенных ею аналогий эту вещь отличает одна существенная, на наш взгляд, деталь — изображение растительных побегов у ног крылатого существа, сближающее его с приведенными выше памятниками.
Замыкает рассматриваемый круг образов изображение на золотой бляшке, происходящей из грабительских раскопок близ ст. Лабинская на Кубани (Веселовский. 1910. С. 214. Рис. 245). У представленного здесь божества нижние края одежды трактованы в виде растительных побегов, выше располагаются головы грифонов на длинных шеях, которые богиня сжимает в руках. Пара крыльев, возвышающихся над ее плечами, также имеющая головки грифонов на концах, трактована как «крылья-грифоны» (рис. 37.2). К сожалению, обстоятельства находки этой вещи, происходящей из грабительских раскопок, не дают возможности судить о ее узкой датировке. Этот экземпляр близок по своему типу и некоторым иконографическим особенностям к еще одному чрезвычайно своеобразному варианту воплощения скифского женского божества, неоднократно привлекавшему внимание исследователей.
К этому типу относятся изображения на знаменитых золотых бляшках из кургана Куль-Оба и серия изображений на бляшках из херсонесского склепа № 1012 (Рогов. 2002). Изображения чрезвычайно своеобразны, а также важны для понимания греко-варварских контактов в сфере изобразительного искусства на территории Северного Причерноморья.
При раскопках кургана Куль-Оба были обнаружены 4 нашивные ажурные бляшки с изображением женского божества (рис. 38), сделанных в технике штампа с дополнительной гравировкой (Артамонов. 1966. Табл. 230; Piotrovsky, Galanina, Grach. Tabi. 203). Богиня одета в пеплос, сколотый на плечах, на голове у нее — калаф. На плечах богини крылья, заканчивающиеся головками рогатых грифонов (крылья-грифоны). Складки одежды в нижней части фигуры божества трактованы в виде пары змей, ниже изображена пара птичьих головок на длинных шеях, еще ниже — пара головок грифонов. Идея «прорастания» также, возможно, присутствует в данном изображении — в нижней части фигуры иногда видят схематичное изображе-
363

Рис. 37. Золотые бляшки (1 — из Херсонесского склепа 1012; 2 — из ст. Лабинская)

Рис. 38. Бляшка из кургана Куль-Оба
364
ние пальметки (Копейкина. 1986. С. 53). Впрочем, растительные мотивы не акцентированы, а в лучшем случае лишь слабо намечены. При взгляде на этот шедевр греко-варварской торевтики зритель, конечно, в первую очередь обратит внимание на «экзотические» атрибуты богини — змей, головки грифонов. Среди этих атрибутов самым необычным оказывается изображение мужской бородатой человеческой головы, которую богиня держит в левой руке.
Л. В. Копейкина, подробно проанализировавшая изображения на бляшках из Куль-Обы, пришла к выводу, что иконографический тип представленного на них женского божества «не является изобретением местных мастеров» (Копейкина. 1986. С. 54). Однако все приведенные ею аналогии из репертуара памятников античного искусства (Указ. соч. С. 54-55) не совсем точны, так как каждая из них отражает лишь отдельные черты рассматриваемого божества (растительные мотивы, отдельные изображения грифонов и т. п.). Иконография образа, представленного на бляшках из Куль-Обы, гораздо сложнее. В качестве некоторой сюжетной аналогии этому образу можно привести изображения крылатых «прорастающих» богинь, фланкированных фигурками грифонов на уже упоминавшейся выше золотой диадеме из Британского музея (Marshall. 1911. Pl. XXVII. n. 1610). Но и здесь представленное женское божество, играющее роль орнаментального мотива, «бледнее» и проще, чем грозный, полный внутреннего напряжения (несмотря на свою статичность) образ на рассматриваемых бляшках.
Конечно, мастер, его задумавший, обращался к художественным приемам и образам, характерным для античного искусства, однако, соединяя и комбинируя отдельные элементы, в результате создал достаточно оригинальное и сложное произведение. Самой интересной особенностью богини из Куль-Обы является бородатая мужская голова, которую она держит в левой руке. В литературе ее часто называют «маской Силена» (например, Бессонова. 1983. С. 97; Копейкина. 1986. С. 55). Д. Б. Шелов в свое время обратил внимание на сходство головы в руках у богини с изображениями силенов на монетах Боспора (Шелов. 1950. С. 64) Интересно, однако, что, по мнению этого исследователя, тип Силена на боспорских монетах отличался от чисто греческого изображения этого божества. Он также привел ряд близких изображений на бляшках из курганов Азиатского Боспора (Указ. соч. Рис. 18.1-3).
На наш взгляд, наиболее точно определил предмет, который держит в руках куль-обская богиня, М. И. Артамонов, назвав его «отсеченной головой» (Артамонов. 1961. С. 67). М. И. Артамонов связывал этот атрибут с культом почитавшейся на Боспоре Афродиты Апатур и полагал, что на куль-обских бляшках она могла быть изображена с головою одного из гигантов, с которыми, согласно преданию, она расправилась при помощи Геракла ( Diod. II.
365
43). Рассказ об этом, действительно, содержится в труде Диодора Сицилийского, однако в нем ничего не говорится о том, что головы врагов отрезались и приносились богине.
С. С. Бессонова считала, что это изображение может быть сопоставлено с практикой женских оргиастических культов, распространенных в античное время в Восточном Средиземноморье (Бессонова. 1983. С. 97). Не отрицая возможности соотнесения женского изображения с отрубленной головой в руках с греческой культовой практикой, отметим все же необычность иконографической схемы, представленной на бляшках из Куль-Обы, для памятников античного искусства. Поэтому для понимания этого образа нам представляется более интересным и перспективным подход М. И. Артамонова, попытавшегося наметить его связь с какой-то местной северопричерноморской традицией.
Лишь один источник — Геродот (IV, 103, 1,2) — сообщает о местном таврском женском божестве, которому приносились подобные жертвы.
Отметим также, что мотив отрубленной человеческой головы можно встретить и на некоторых других произведениях греко-скифской торевтики IV в. до н. э. Примечательно, что все эти предметы происходят с территории одного района — Прикубанья. К ним относятся изображения воинов с отрубленными головами в руках на золотом «колпачке» из Курджипского кургана (Галанина. 1980. С. 93. Рис. 51 ). Изображения голов («масок») с закрытыми глазами украшают основание золотой треугольной пластины из кургана Карагодеуашх (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 232). На фрагменте ритона из этого же кургана можно увидеть изображения обезглавленных человеческих тел (Артамонов. 1961. С. 74. Рис. 18).
Тема эта представлена и на некоторых греческих изделиях, также связанных с памятниками этого региона. Обезглавленную фигуру Медузы можно увидеть на фрагменте резной кости из сырцовой гробницы в курганной группе Уташ, расположенной недалеко от Семибратних курганов и, очевидно, датированной тем же или несколько более поздним временем (Алексеева. 1991. С. 30-31. Табл. 51).
Учитывая современные представления о таврской культуре, ее изолированности, ограниченности ее ареала районами горного и предгорного Крыма, следует признать, что таврское общество являлось достаточно отсталым и замкнутым обществом горцев (Щеглов. 1981. С. 205 сл.; 1988. С. 57 сл). Поэтому круг аналогий в памятниках материальной культуры, связанных с областью Прикубанья, представляется нам более выразительным.
Вполне вероятно, что образ женского божества с мужской головой в руках, воплощавшийся в греко-варварской торевтике, связан с особенностями религиозных представлений населения определенного региона — Азиатского Боспора.
366
Проблема датировки золотых бляшек из Куль-Обы представляет определенную сложность. Не совсем ясно, с каким конкретным погребением связаны эти находки. В кургане Куль-Оба фиксируется несколько последовательных захоронений. Древнейшее, над которым был возведен каменный склеп, возможно, относится к первой половине IV в. до н. э., более поздние— к 340-320 гг. дон. э. (Алексеев. 1992. С. 156-157). Л. В. Копейкина, специально изучавшая нашивные бляшки из Куль-Обы, отнесла бляшки с изображением богини к первой половине IV в. до н. э. (Копейкина. 1976. С. 55). Она считала, что бляшки из Куль-Обы были сделаны в боспорских мастерских по специальному заказу. Как нам представляется, датировка, предложенная этой исследовательницей на основании стилистического анализа находок, является наиболее обоснованной.
Этот же иконографический тип богини с человеческой головой в левой руке представлен на бляшках, происходящих из склепа 1012 в Херсонесе, открытого в 1899 г. и содержавшего ряд погребальных урн с прахом. В урнах 4 и 6 были обнаружены бляшки из тонкой золотой фольги с изображением богини (Manzevisch. 1932. Pl. I, 4; Пятышева. 1956. Табл. I, 1; 1971. С. 89, 98). На голове у богини стефана, лицо более круглое и широкое по сравнению с лицом божества из Куль-Обы. Богиня имеет пару крыльев, трактованных в виде шей грифонов; пары складок ее хитона ниже пояса трактованы в виде двух пар змеиных шей и голов грифонов. Человеческая голова в руке богини передана более схематично, чем на бляшках из Куль-Обы (рис. 37.1 ). Однако из урны 6 с прахом происходят бляшки с изображением бородатой мужской головы, очень близкие по типу к тем, которые представлены на находках из Куль-Обы (Manzevitsch. Pl. 1,5). Н. В. Пятышева считала бляшки с изображением богини из Херсонесского склепа продукцией боспорских мастерских и называла их «упрощенно-варваризированной копией бляшек из Куль-Обы» (Пятышева. 1971. С. 98-99).
Временем постройки стены считают 350-300 гг. до н. э.; по мнению Н. В. Пятышевой, пристенный склеп 1012 функционировал в 325-250 гг. до н. э. (Пятышева. 1956. С. 12). Е. Я. Рогов на основе анализа погребального инвентаря предложил новую датировку херсонесского склепа — последнюю четверть IV — первую треть III в. до н. э. (Рогов. 2002. С. 41). Бляшки же с изображением женского божества, представляющие несомненную близость бляшкам Куль-Обы, вероятнее всего, относятся еще к IV в. до н. э.
Бляшка с похожим изображением, представляющим тот же женское божество, держащее в руках отрубленную голову, происходит из Прикубанья (Анфимов. 1987. С. 127).
Примечательно то обстоятельство, что два из трех известных экземпляров бляшек, на которых представлен тип крылатого стоящего женского божества с человеческой головой в руке, были обнаружены в составе погре
367
бального инвентаря захоронений, располагавшихся на территории греческих городов Северного Причерноморья. Очень близкая по ряду иконографических черт (крылья-грифоны, трактовка двух пар складок хитона в виде хтонических существ) изображениям из Куль-Обы (Пантикапея) и Херсонеса бляшка из ст. Лабинской в Прикубанье (рис. 37.2) представляет богиню без своеобразного атрибута — головы — в руках.
Достаточно распространенными среди женских образов в искусстве Северного Причерноморья были изображения, названные «прорастающими» (Савостина. 1996. С. 79-80). У таких изображений нижняя часть фигуры трактована в виде стилизованных прорастающих побегов, иногда увенчанных цветами. Часто в растительные мотивы переходят складки одежды (нижняя часть складок хитона). Иногда сама фигура как бы вырастает из побега аканфа.
Одним из наиболее выразительных изображений в этой серии является изображение обнаженной женской полуфигуры в месте крепления ручки на серебряном блюде из северо-западной погребальной камеры Чертомлыцкого кургана в Приднепровье (Толстой, Кондаков. 1889. С. 111. Рис. 98; Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 188. Кат. №92. С. 174 сл.). Фигура женщины как бы вырастает из аканфа, ее обнаженные руки, украшенные витыми браслетами, подняты вверх, большие пальцы как бы поддерживают странный, резко расширяющийся в верхней части головной убор, напоминающий калаф (рис. 39). Головной убор передан в более низком рельефе, чем все прочие части изображения, и по отношению к ним кажется менее выпуклым, уплощенным и как бы «отступающим» на задний план.
Помещенная внизу, под акантовым трилистником пальметка имеет расходящиеся листья, концы которых изогнуты вниз, по направлению к центральному листу.
Д. А. Мачинский обратил особое внимание на необычный (трактованный в верхней части как выгнутый полумесяц) головной убор божества и то обстоятельство, что листья пальметки в нижней части изображения «более всего напоминают схематическое изображение пучка корней, уходящих под землю», как на отличительные черты, важные для понимания образа в целом (Мачинский. 1978а. С. 133).
Действительно, в круге греческих памятников классического и эллинистического времени не удается обнаружить близких аналогий головному убору женского божества на чертомлыцком блюде. Несколько аналогий этому убору (в сочетании с жестом божества, поддерживающего его руками) можно отметить на памятниках гораздо более раннего времени. К их числу принадлежат позднемикенские резные камни, упоминавшиеся в предыдущем разделе работы (Boardman. 1970. n. 113, 145). Некоторую близость форме этого головного убранства являют уборы, венчающие изображения
368
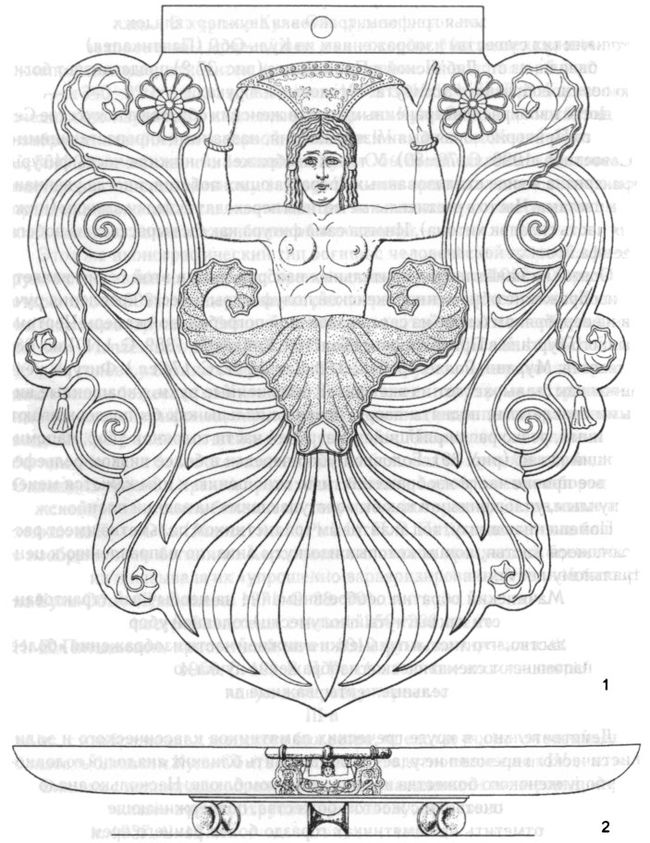
Рис. 39. Таз из кургана Чертомлык
369
египетской богини Хатхор на ручках-подставках бронзовых зеркал эпохи 18 династии (1550-1335 гг. до н. э.) (Mistress of the House... п. 22 a,b). На втором из них (п. 22 b) божество, подобно деве из Чертомлыка, поддерживает руками края убора.
Справедливо и замечание, что божество на блюде из Чертомлыка не только «прорастает», но и является «укорененным». Действительно, нижняя часть изображения (пальметка под акантовым трилистником) более всего напоминает корневую систему. Она лишь частично занимает нижнюю половину боковой плоскости блюда, основная же часть переходит на нижнюю его поверхность. Таким образом, когда блюдо находится в своем «нормальном» положении, нижняя часть изображения, подобно корням, уходящим под землю, остается невидимой для зрителя (см.: Толстой, Кондаков. 1899. С. 110. Рис. 97; Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. Рис. нас. 188).
Погребения в Чертомлыцком кургане относятся к последней трети IV в., «узкая дата» этого памятника, вероятно, лежит в пределах 330-310 гг. до н. э. (Алексеев. 1981; 1986. С. 36; 1992. С. 152). Основной же набор вещей относится к 340-320 гг. до н. э. (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. С. 136).
Близкой аналогией этой иконографической схеме является изображение на капители конца IV в. до н. э. из Саламиса (Кипр), где между двумя букраниями представлена задрапированная женская фигура с руками, поднятыми к головному убору (Valeva. 1995. Р. 343. Fig. 8). Женскую фигуру, похожую на ту, которая украшает капитель с Кипра, можно увидеть и на капители более позднего времени (II в. до н. э.) из Колхиды (Лордкипанидзе. 1978. Рис. на с. 76). В похожей позе представлены и фронтальные изваяния, украшавшие гробницу III в. до н. э. в Свещарах (Болгария) (Чичикова. 1983. С. 24). «Прорастающая» дева изображена на мозаике конца IV в. до н. э. в Вергине (Andronicos. 1984. Р. 45). Встречается этот образ и на золотых погребальных диадемах второй половины IV — начала III в. до н. э.(см., напримнр: Marshall. 1911. Р. 172. п. 1612, 1614). В качестве античных параллелей указанному типу часто приводят материалы, обнаруженные при раскопках Олинфа, относящиеся к IV в. до н. э., включающие как женские (Robinson. 1933. Pl. 6, 15), так и мужские (см.: Бессонова. 1993. С. 85 сл. Рис. 10.1 ; Valeva. 1995. Fig. 4) изображения. Несколько позже тип обнаженной женской полуфигуры достаточно широко распространяется в искусстве Боспора. В качестве примера можно привести известный боспорский акротерий I в. до н. э., хранящийся в Гос. Эрмитаже и реконструированный Е. А. Савостиной (Савостина. 1996. С. 76. Рис. 6).
Эта исследовательница обратила внимание на то обстоятельство, что изображения «прорастающих» дев (как и изображения аканфа) часто связаны с погребальными памятниками, и высказала интересную гипотезу об их связи с загробным, хтоническим миром и одновременно с идеей воскрешения-
370
прорастания, выраженную изобразительными средствами (1996. С. 80сл.). Добавим к этому, что сакральное значение, связанное с этой идеей, на предметах греко-скифской торевтики IV в. до н. э., вероятно, могли иметь и изображения растительного орнамента. Л. С. Клочко убедительно показала связь таких орнаментальных изображений с украшениями ритуальных женских головных уборов этой эпохи (Клочко. 1982. С. 39 сл. Рис.3-1, 4, 6). Действительно, часто фризы налобных лент украшались группами орнамента, симметрично расположенными по отношению к центральному изображению, которым часто оказывается акантовая завязь, из которой «вырастают» все прочие элементы орнамента (например: Мозолевський. 1979. С. 128. Рис. 110). Д. А. Мачинский подробно рассмотрел этот прием художественной передачи идеи женского божества, символом которого выступал растительный орнамент, на примере серебряных амфоры и блюда из Чертомлыка: если на блюде, речь о котором шла выше, присутствует изображение самого божества, то на амфоре его заменяет система растительного орнамента, «вырастающего», как и женская полуфигура на блюде, из акантовой завязи (Мачинский. 1978.1978а. С. 132-133). Как нам представляется, такую же «замену» можно видеть и на пластине, расположенной под ручкой бронзового блюда из центральной гробницы кургана Толстая Могила (Мозолевський. 1979. С. 65. Рис. 48,49). Имеющаяся на ней композиция очень близка изображению на чертомлыцком блюде. Здесь, несмотря на отсутствие самого антропоморфного изображения, орнамент как бы вырастает из аканфа, он отличается строгой симметрией, составляя ритмическую группу, очень напоминающую чертомлыцкую.
Ю. Валева, приведя целый ряд параллелей «прорастающим» девам, пришла к выводу, что иконография «прорастающих» оформилась, скорее всего, в Аттике и образ этот получил широкое распространение после Пелопоннеской войны, в конце V — IV в. до н. э. (Valeva. 1995. Р. 346-347). Однако в ее работе данный образ (в связи с поставленной исследовательницей задачей) понимается чрезвычайно широко и рассматривается достаточно обобщенно. Интересным, в связи с нашей темой, является упоминание о существовании в Этрурии изображений голов и полуфигур, возможно, местного происхождения, «вырастающих» из растительного орнамента, и предположение, что подобные схемы, отражавшие какие-то местные представления, могли иметь здесь самостоятельную линию развития (Ibid. Р. 340).
Несомненно, представления варваров, населявших Северное Причерноморье, способствовали развитию этой иконографической схемы в грековарварском искусстве. Вместе с тем, она могла легко адаптироваться в соответствии со вкусами заказчика, и вещи, украшенные подобными изображениями, естественно «вписывались» в контекст местной культуры, занимая свое место в вещевых комплексах скифских аристократических гробниц.
371
С одной стороны, изображение «прорастающей» девы на блюде из Чертомлыка в целом можно поместить в круг синхронных памятников, распространяющихся в ареале греческой культуры. С другой стороны, схема, представленная на этом памятнике, имеет «странные» и своеобразные черты, не находящие аналогий, — головной убор и «корневую систему» в нижней части.
Как мы видим, черты эти были органически включены в это, на первый взгляд, вполне эллинизированное изображение женского божества. Очевидно, по ним можно судить о развитии и дополнении широко распространенной в античном мире схеме, помещенной на предмете, предназначенном для сбыта в Скифии.
В целом же ряде случаев потребности северопричерноморского рынка диктовали создание еще более сложных иконографически (и вероятно, семантически) образов. И образы эти еще больше отличаются от изображений, представленных на античных памятниках, происходящих из других регионов, чем «прорастающая» дева из Чертомлыка.
Ярким примером такого более сложного образа может служить женское изображение, помещенное на золотом конском налобнике, происходящем из кургана Цимбалка в Приднепровье, раскопанном в 1868 г. И. Е. Забелиным (Galanina, Grach. 1986. Pl. 144).
Серебряный налобник аналогичной формы (почти полностью разложившийся), с таким же, скорее всего, выполненным при помощи одной матрицы изображением, был найден в конском погребении № 2 кургана Толстая Могила, открытом сравнительно недавно (Мозолевський. 1979. С. 35. Рис. 20; С. 39. Рис. 23). Согласно периодизации скифских «царских» курганов Приднепровья, разработанной А. Ю. Алексеевым, эти курганы относятся к одному хронологическому пласту и были, вероятнее всего, сооружены в 360/ 350 — 330/320 гг. до н. э. (Алексеев. 1982; 1992. С. 149-150, 163).
На этих налобниках представлено женское божество, также «вырастающее» из завязи (рис. 40). В нижней части налобника (так же, как и на изображении из Чертомлыка) можно увидеть пальметку, как бы растущую вниз, из которой «вырастает» божество. Из этой пальметки «вырастают» и две змеи, переплетающиеся головами в нижней части пластины. Нижние складки подпоясанного хитона, в который одета женщина, «переходят» в шеи львиноголовых рогатых грифонов, рога которых она сжимает в опущенных вниз руках. Ниже, на том месте, где, следуя реалистическим традициям античного искусства, мастер должен был бы изобразить ноги женщины, помещена другая пара грифонов, менее «грозных» — они птицеголовые, не имеют рогов и отличаются меньшими размерами по сравнению с верхней парой. Под ними помещены волюты, завитки которых симметричны загнутым внутрь и вверх головам грифонов. Грудь божества также подчеркнута парой завитков, на голове у него — калаф. Представленное здесь женское
372

Рис. 40. Украшения конской сбруи из кургана Цимбалка (1 — налобник; 2 — нащечники)
изображение не только «укоренено» и «вырастает», оно само как бы дает жизнь следующему растительному циклу — из калафа на его голове «растут» два побега, заканчивающиеся пальметкой с волютами.
В женских образах, которые мы видим на налобниках из Цимбалки и Толстой Могилы, при помощи изобразительных приемов, характерных для греческого искусства классического времени, воплощена чрезвычайно сложная идея о каком-то женском божестве Скифии. Изображение это, несомненно являющееся шедевром эллино-скифской торевтики, также является самым «насыщенным» как композиционно, так и семантически в кругу известных нам антропоморфных изображений Северного Причерноморья этой эпохи. Представленный здесь образ «девы-зверя» несет в себе комплекс идей «женщина—растение—древесный ствол—змеи—грифоны». Если мы вспомним, что оно было изготовлено для украшения конского налобника, а по бокам его должны были помещаться нащечники в виде пары голов
373
дельфинов ( Piotrovsky, Galanina, Graçh. Pl. 144), то круг идей, связанный с этим образом, расширится еще больше. Возможно, в этом случае действительно можно видеть «...самое полное из известных нам в изобразительном искусстве древности воплощение реконструированного лингвистами и филологами древнего индо-арийского образа мирового дерева, тождественного образу великой женской богини, заместителем которой чаще всего выступает конь» (Мачинский. 1978а. С. 135).
Точных аналогий иконографической схеме, представленной на налобниках, в греческом искусстве не существует. Можно наметить лишь отдельные сюжетные и стилистические параллели. Скорее всего, при создании женского образа, украшавшего эти предметы, мастер ориентировался на женский тип, характерный для античной скульптуры классической эпохи. Вполне вероятно, что «основой» для изображения скифской богини послужило какое-то достаточно известное скульптурное произведение. Некоторое сходство с рассматриваемым изображением имеют статуи, украшавшие так называемый «портик Кор» афинского Эрехтейона, строительство которого было закончено в самом конце V в. до н. э. (Брунов. 1938. С. 6. Табл. 1,2; III, 1 ). Еще большее сходство с богиней на конских налобниках имеет скульптурный тип трехликой Гекаты, известный по римским копиям (см., например: Античная скульптура... С. 45, кат. № 6). Одна из таких скульптур, изображающих Гекату (рис. 41.1), хранится в Государственном Эрмитаже (Кобылина. 1986. Табл. 2.1).
Создание архаистического образа Гекаты в виде трех женских фигур, обращенных спинами к столбу (стволу?) и как бы образующих с ним одно целое, восходит к скульптору Алкамену (Paus. II, XXX, 2), работавшему в конце V в. до н. э. в Афинах (Кобылина. 1986. С. 26). Возможно, мастеру, изготовившему налобники с изображением богини, были известны скульптуры афинского Гекатейона.
Некоторые черты в изображении скифского божества имеют параллели в круге женских изображений, известных в греческом искусстве эпохи архаики. Так, женское божество, сжимающее в своих руках грифонов, можно видеть на серебряном ритоне из Келермеса, упоминавшемся в предыдущем разделе работы. Как мы пытались показать, схема «женское божество и грифон» в эпоху архаики отражала представления греков о Северном Причерноморье, населявших его варварах и местном типе Великого женского божества. Пара змей часто дополняла изображения Медуз на ручках бронзовых кратеров второй половины VI в. до н. э. Изображения «прорастающего» головного убора богини также можно встретить на некоторых памятниках архаического времени. Так, два расходящихся побега можно увидеть на головном уборе Латоны или Артемиды на кикладских рельефных амфорах, относящихся к 675 г. до н. э. (Ahlberg-Cornell. 1992. Р. 391. Fig. 254; Р. 398.
374
Рис. 41. 1 — мраморная статуя трехликой Гекаты;2 — подвеска из Пантикапея
Fig. 255). На головах архаических фигурок Артемиды из святилища Артемиды Ортии в Спарте изображены уборы в виде листьев (Alroth. 1989. Р. 45. Fig. 19, 20). Позже, в классическое время, головные уборы с растительным орнаментом встречаются на подвесках в виде женских головок (Higgins. 1980. Pl. 25:D); одна такая подвеска происходит из Пантикапея (Толстой, Кондаков. 1889. С. 59. Рис. 79) (рис. 41.2).
Некоторую аналогию побегам, «вырастающим» из головы богини, можно видеть на золотой фиале из кургана Солоха, где изображения горгонейо-
375
нов завершаются устремленными вверх растительными композициями (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 164, 165), а также на греческом бронзовом нагруднике из Елизаветовского кургана № 5 в Прикубанье, где над головой Медузы «вырастают» идущие кверху побеги (Ibid. PL 218). Таким образом, при создании этого сложного женского образа, пожалуй, самого «насыщенного» дополнительными изображениями, мастер, вероятно, ориентировался прежде всего на произведения греческого искусства, выполненные в так называемой архаистической манере. В результате у него получилась неподвижная, строго фронтальная фигура, торжественность позы которой подчеркивает стройный ритм вертикальных складок одеяния. Исходный тип Гекаты было преображен (у него вместо ног появились «растительные» элементы) и дополнен изображениями двух пар грифонов и змей, очевидно, отражающими «местные» черты божества. Появление этих атрибутов, скорее всего, было продиктовано требованиями скифской идеологии. Очевидно, далеко не случайно был также усилен и акцентирован «прорастающий» и «укорененный» характер этой «женщины-древесного ствола».
Интересная и сложная образная система запечатлена на золотой подтреугольной пластине женского головного убора, найденной в одной из гробниц кургана Карагодеуашх в Прикубанье (Лаппо-Данилевский, Мальмберг. 1894. С. 7-9). Изображения, украшающие этот предмет, как и на многих предметах греко-скифской торевтики, помещены в трех поясах (зонах), очевидно, отражающих представления о трех зонах мироздания, существовавшие в идеологии скифского мира, которые часто воплощались в троичных структурах (Мачинский. 1978. С. 240; Раевский. 1985. С. 190). Изображения усложняются (как по содержанию, так и композиционно) и насыщаются действием и напряжением по мере продвижения вниз, от верхнего фриза к нижнему. Если наверху изображена одиночная статичная фигура, то на нижнем фризе представлены пять персонажей. Композиция нижнего фриза, вероятно, была самой значимой в системе декора данного предмета. Отметим, что нижний фриз «наиболее основательно» отделен от двух предыдущих: если верхний и средний фризы разделяет полоса из овов, то средний отделяется от нижнего небольшим, как бы промежуточным фризом. Его пространство занимает изображение двух симметрично лежащих головами друг к другу грифонов, положивших передние лапы на какой-то предмет, по всей вероятности представляющий собой сосуд. В нем часто видят «сосуд с огнем или фимиатерий» (Бессонова. 1993. С. 108-109).
Отметим присутствие на пластине парного изображения этих фантастических существ, явно соотнесенных с кругом женских изображений. Этот сюжет повторяет мотив эпохи архаики «женское божество и пара грифонов», зафиксированный на келермесском ритоне. Фигуры двух фризов — нижнего и среднего — строго фронтальны. На нижнем же фризе
376
фронтально изображены все женские персонажи (как главный, так и второстепенные).
Мы, вслед за А. П. Манцевич (1964. С. 131) и Е. А. Савостиной (1995. С. 117), видим в фигуре верхнего фриза изображение женщины. Это — самое эллинизированное из всех имеющихся на пластине изображений. Оно является неумелой репликой статуарного типа, известного в Греции в V-IV вв. до н. э., представляющего женщин в плащах или покрывалах, со складкой (прямой или диагональной), идущей вниз от правого плеча, левой рукой поддерживающих край одежды (см., например: Collignon. 1911. Р. 161. Fig. 92; Р. 168. Fig. 99; Р. 170. Fig. 101).
На среднем фризе изображена колесница, как бы несущаяся прямо на зрителя; выше помещена полуфигура женщины. Мастер, очевидно, плохо справился с поставленной художественной задачей (или же это не представлялось для него существенным), и потому неясно, как соотнесено это изображение с колесницей. В литературе не существует единого мнения о том, стоит ли женщина на колеснице или же, как полагала А. П. Манцевич, видевшая в этом изображении изображение Ники, стоит позади нее (1964. С. 131-132).
Фронтальность изображения на среднем фризе пластины (представлявшую в исполнении несомненную сложность для мастера, плохо справившегося с поставленной задачей) диктовалась, как нам кажется, требованиями заказчиков подобных вещей. Женщины, изображенные на верхнем и среднем фризах, имеют черты несомненного сходства — у них круглые лица, одинаково трактована прическа, одежда у них явно греческого облика. Вполне возможно, что на этих фризах представлен один и тот же персонаж.
Женщина, изображенная на нижнем фризе, восседает в центре композиции. Она одета в «скифские» одежды — на голове у нее остроконечный головной убор и покрывало. Венчает этот убор треугольная пластина, аналогичная той, которая была обнаружена в погребении (Лаппо-Данилевский, Мальмберг. 1894. С. 8-9). Вполне вероятно, что на похороненной здесь женщине был наряд, подобный тому, в который облачено женское божество на нижнем фризе. Женщина неподвижно восседает в центре композиции, в кругу персонажей, явно занимающих по отношению к ней подчиненное положение. Среди них главными оказываются явно мужские персонажи справа и слева от нее, связанные с ней какими-то действиями. Эти персонажи, так же, как и все прочие фигуры композиции, одеты в «скифские» одежды, предстоят перед женщиной. Мнение А. П. Манцевич, полагавшей, что мужские персонажи, как и божество, сидят рядом с ней на скамье ( 1964. Рис. 2), не представляется нам убедительным. Их позы, положение ног противоречат предложенной этой исследовательницей реконструкции. То обстоятельство, что сидящая женщина оказывается такого же роста, как и стоящие рядом мужчины (а с учетом высоты головного убора даже кажется выше всех
377
прочих изображений) не должно нас смущать. Этот прием сознательного нарушения пропорций в пользу женского персонажа встречается и на других известных нам изображениях женского божества и предстоящих перед ним скифов.
Ритуальный характер сцен, изображенных на пластине, никогда не вызывал сомнения у исследователей (Ростовцев. 1913. С. 14-15; Артамонов. 1961. С. 64; Манцевич. 1964. С. 135-138; Бессонова. 1983. С. 109-110; Савостина 1995).
6.1. Шедевры в стиле «этнографического реализма»
В течение рассматриваемого периода в рамках так называемой грекоскифской торевтики были созданы шедевры, изображения которых по праву украшают страницы учебников, альбомов и книг, посвященных искусству и культуре классического времени. Все эти высокохудожественные изделия, как правило, уникальны и были изготовлены греческими мастерами, скорее всего, по особому заказу. Они украшены сценами, которые М. И. Ростовцев называл «сценами этнографического реализма» и которые долгое время трактовались как «сцены из жизни скифов». Действительно, в декоре этих изделий присутствуют изображения вполне реальных варваров, облаченных в характерную одежду, совершающих военные или охотничьи подвиги либо занятых бытовыми или хозяйственными делами. Композиции на скифские темы украшают обкладки горитов и ножен мечей, гребень и чашу из кургана Солоха, чаши из Воронежского кургана и Гаймановой Могилы, шлем и тиару из Передериевой Могилы, пектораль из Толстой Могилы, амфору из Чертомлыка, нашивные бляшки и другие изделия из золота и серебра, найденные при раскопках знаменитых скифских «царских» курганов.
Сравнительно недавно Е. А. Савостина предложила назвать эти произведения памятниками «скифского» сюжетного круга (2001. С. 284-285). Анализируя произведения «на скифскую тему», исследовательница выделяет два направления в их стилистике: «классическое» и «неклассическое». Согласно ее точке зрения, в русле первого, для которого характерны «реалистичность изображения, объемность фигур, их свободная постановка в пространстве и непринужденная пластика движений, свойственные греческой культуре Высокой и Поздней пластики», изготовлены пектораль из Толстой Могилы, солохский гребень, сосуды из Куль-Обы. Второе, «неклассическое» направление наиболее отчетливо воплотилось в изображении битвы старых и молодых скифов на тиаре из Передриевой Могилы; хотя и в этом произведении «прослеживаются особенности школы греческой классики... битва скифов решена в принципах иного пространственно-пластического видения» (Там же. С. 287-288).
378
Рис. 42. Амфора из кургана Чертомлык
В настоящее время высокая сакрализованность «бытовых» сцен, представленных на шедеврах греко-скифской торевтики, надежно обоснована. Почти для каждой из них предпринимались попытки «прочтения». Так, Д. С. Раевский предложил «прочтение» сцен, изображенных на воронежском серебряном сосуде и золотом сосуде из Куль-Обы, и предложил видеть в них предание о происхождении скифов, рассказанное Геродотом (1970. С. 90-101).
К числу наиболее интересных памятников этого круга, украшенных максимально сложными системами изображений, можно по праву отнести чертомлыцкую амфору (рис. 42) и пектораль из кургана Толстая Могила (рис. 43).
Оба этих изделия имеют «трехчастное» членение. Их композиции и образный строй декора рассмотрены в работах Д. С. Раевского ( 1985), Д. А. Мачинского ( 1978), И. В. Кузьминой ( 1976), А. В. Симоненко (1987), Ф. Р. Балонова (1991. С. 375 сл.) и других исследователей1. В декоре поверхности сереб-
1 Обзор мнений о семантике декора амфоры см.: Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 122 сл.
379

Рис. 43. Пектораль из кургана Толстая Могила
ряной чертомлыцкой амфоры можно выделить три зоны (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 174-175, кат. № 91). В верхней, под горлом сосуда, представлены сцены терзания грифонами оленей. Центральная сцена, на узком фризе в широкой части тулова, трактуется как изображение принесения в жертву лошади (Мачинский. 1978. С. 236-237). Нижнюю часть амфоры занимает изображение «чудесного сада»; на ее «лицевой стороне» находятся три краника-слива. «Главным» изображением этой части сосуда является протома крылатого коня в воротнике из плавников, возможно, представляющее Посейдона-Тагимасада (Мачинский. 1978а. С. 132-135). А. Ю. Алексеев причисляет амфору к группе погребального инвентаря из Чертомлыка, относящейся к 350/340-320 гг. до н. э. (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. С. 130), а погребение, с которым она связана, отнес ко времени ок. 330 г. до н. э. (Алексеев. 2003. С. 230. Табл. 10).
Из центрального погребения кургана Толстая Могила происходит знаменитая золотая пектораль (рис. 43) (Мозолевский. 1979. С. 213 сл. Рис. 68-77). Верхний ее фриз украшают изображения скифов, занятых разнообразными «домашними» делами, главной композиционно и семантически явля-
380
ется сцена шитья ритуальной одежды из овечьей шкуры. Средний фриз занят изображением «чудесного сада». На нижнем представлены дикие и домашние животные и фантастические существа; центральная композиция этого фриза — сцена терзания лошади двумя грифонами. А. Ю. Алексеев отнес комплекс центрального погребения Толстой Могилы к 340 г. до н. э. (2003. С. 230. Табл. 10).
Оба этих предмета, воплощающих лучшие достижения греческого реалистического искусства, были предназначены для варварской аристократии и являются попыткой выразить на греческом художественном языке представления, бытовавшие в туземной среде, связанные с сакральным назначением человека, смертью, «жизнью после смерти», отношениями человека и божества и тому подобное.
Памятники в стиле «этнографического реализма» служат, в частности, бесценными источниками для реконструкции реалий жизни кочевого общества — одежды, вооружения, убранства боевого коня и проч. Примечательно, что такое количество шедевров торевтики IV в. до н. э., какое нам известно по находкам из Северного Причерноморья, неизвестно для других регионов греческой колонизации.
6.2. Тема женской воинственности
Один из самых примечательных сюжетов, чрезвычайно ярко представленных в художественных изделиях., встречающихся на Боспоре и его варварской периферии в IV в. до н. э., — изображения вооруженных женщин. Самым выразительным из подобных памятников является золотой калаф (рис. 44), найденный в склепе 1 кургана Большая Близница на Таманском полуострове (Прикубанье). Этот курган, датированный второй половиной IV в. до н. э. по находкам краснофигурной керамики (Пругло. 1974), содер-

Рис. 44. Калаф из кургана Большая Близница
381
жал целый ряд погребений, большинство из которых были ограблены еще в древности. Самые интересные находки происходят из двух неограбленных склепов (№ 1 и 2) (Шауб. 1987).
На калафе изображены сцены битвы, в которой, как обычно полагают исследователи, участвуют вооруженные варвары и грифоны (Piotrovsky, Galanina, Grach. Pl. 226-228). Однако существует, на наш взгляд, достаточно надежно аргументированная точка зрения, согласно которой изображения варваров на калафе являются изображениями амазонок (Мачинский. 1978а. С. 137-138). Сражающиеся амазонки одеты в «восточные» костюмы, похожие на те, в которые одеты персы на золотой обкладке меча из Чертомлыка (Алексеев, Мурзин, Ролле. 1991. Кат. № 191; Нефедкин. 1998. С. 72 сл.); и сама сцена, на нем представленная, напоминает изображения на калафе из Близницы.
Тот же сюжет — битву между амазонкой и грифоном — можно видеть на одной из блях, служивших украшением бронзового таза, представляющего собой случайную находку близ ст. Темижбекская (Краснодарский край), происходящую из нарушенной во время земляных работ курганной насыпи (Анфимов. 1966. Рис. 3). Композиция сцены, представленной на бляхе (рис. 45), также близка тем, которые украшают калаф из Большой Близницы; на одном из представленных на нем изображений — изображение амазонки, упавшей на колени в противоборстве с грифоном. В отличие от сцен на калафе, изображение на пластине из Темижбекской не оставляет никаких сомнений в том, что здесь представлена амазонка. Она изображена с обнаженной правой грудью, в подпоясанном хитоне и с непокрытой головой, позволяющей видеть длинные развевающиеся волосы.
Сцены амазономахии известны в греческом искусстве классического и эллинистического времени (см.: Трейстер 2001). Изображения битвы греков с амазонками украшали фриз храма Аполлона Эпикурия в Бассах (конец V в. до н. э.) (Никулина. 1994. Табл. 61) и восточный фриз мавзолея в Галикарнассе (середина IV в.) (Колпинский. 1988. Табл. 336-337). Сюжет этот представлен и в произведениях греческих вазописцев. Однако среди памятников материковой Греции сюжет борьбы амазонок с грифонами неизвестен. Эти сцены зафиксированы лишь на периферии античного мира, в некрополе Тарента (Южная Италия), где они представлены на терракотовых погребальных ритонах (Hoffman. 1966. S. 116-117; Шауб. 1993. С. 85) и на италийской краснофигурной керамике (Beazley. 1963. 1036.5).
По всей вероятности, сюжет на калафе из кургана Большая Близница связан с местной идеологией, а также с семантикой комплекса погребения и функциями захороненных в нем женщин.
По поводу интерпретации погребения в кургане Большая Близница в литературе были высказаны разные мнения. Практически все исследователи
382

Рис. 45. Украшение бронзового таза из ст. Темижбекская
трактуют их как погребения представительниц знатного боспорского рода, служивших одной религиозной идее, которой являлся культ какого-то синкретического божества. М. И. Ростовцев в свое время высказал предположение, что эта богиня могла отождествляться как с Деметрой, так и с Афродитой ( Rostovtzeff. 1922. Р. 73). В. Ф. Гайдукевич видел в этом божестве Афродиту Уранию (Гайдукевич. 1949. С. 201 -202). А. А. Передольская, рассмотрев терракотовые статуэтки, найденные в этом кургане, пришла к заключению, что в комплексах погребений можно выделить черты обряда, близкие к кругу Элевсинских мистерий в честь Коры и Деметры (Передольская. 1962. С. 46). П. Александреску видел в терракотовых статуэтках Большой Близницы черты культа Великой Богини и хтонического культа Диониса ( Alexandresku. 1966. Р. 75).
Д. А. Мачинский, рассмотрев некоторые образы из неразграбленных комплексов этого памятника (калаф, браслеты, пектораль), пришел к выводу, что, как бы ни именовалась богиня, жрицами которой были погребенные боспорянки, «в культе и мифологическом окружении ее имели место некоторые элементы и образы, которые вряд ли могут быть объяснены исходя из классических эллинских канонов культа Деметры и Афродиты». В амазон-
383
ках он видит «женское воинство» этой Великой Богини и отмечает, что в греческой традиции они не связаны ни с Деметрой, ни с Афродитой, но зато иногда изображаются как участники охоты Артемиды ( 1978а. С. 137), которая, очевидно, рассматривалась как их покровительница. Д. А. Мачинский считает изображения на калафе одним из возможных отражений варианта «алтайского мифа о борьбе аримаспов с грифонами», также соотнесенном с представлениями о Великой Богине, которой служила погребенная в кургане жрица (1998а. С. 114).
Одновременно тема эта разрабатывается и в греческой вазописи. В раннеэллинистическое время на Боспоре получают широкое распространение так называемые «боспорские пелики», украшенные сценами сражений — аримаспов или амазонок с грифонами, амазонок с эллинами. Датировка этих ваз и выделение ведущих мастеров-вазописцев, работавших в беглом стиле, принадлежит К. Шефолду (Schefold. 1934; из более поздних работ см.: Кобылина. 1951; Bahae. 1958). М. В. Скржинская писала об особой популярности сцен, представляющих битву амазонок с грифонами, на аттических пеликах IV в. до н. э. и о массовом ввозе их на Боспор (Скржинська. 1997. С. 58,61 -62). Отмечено, что часть таких пелик могла производиться и на самом Боспоре (Буравчук. 1986. С. 86 сл.). Одним из вариантов повторяющегося сюжета является изображение протом амазонки, коня и грифона, как бы конспективно передающими идею битвы (см., например: Кобылина. 1951. Рис. 2, 2; 6, 1). Синхронность начала массового распространения сосудов с подобными сюжетами и изготовления калафа из Большой Близницы также впервые была отмечена Д. А. Мачинским (1978а. С. 137). Сейчас многие исследователи разделяют мнение о соотнесенности изображений на пеликах с религиозными представлениями греко-варварского населения Боспорского государства (см.: Буравчук. 1986. С. 87-89), в частности, с представлениями о загробной жизни (Шауб. 1993. С. 84 сл.). Изображения амазонок на этих сосудах, возможно, связаны не только с хтоническим пониманием этих образов, но и с представлениями о каком-то женском божестве, имевшем местную основу.
Интересно, что в кургане Малая Близница на Тамани, относящемся к этому же периоду (Виноградов. 2004.1. С. 272-275), был найден обломок аттического краснофигурного кратера с изображением головы сражающейся амазонки (Шкорпил. 1910. С. 46. Рис. 28).
Амазономахия представлена и на известняковом античном рельефе, найденном на Тамани и, по-видимому, в древности украшавшем храм или героон (Савостина 2001а. С. 39 сл.).
Судя по имеющимся памятникам, эта тема «женской воинственности» связана с восточными рубежами Великой Скифии (Прикубанье, территория Боспорского государства) и активно разрабатывается на последнем
384
этапе ее истории. Соотнесенность изображений вооруженных женщин с контекстом материальной культуры восточных областей Скифии, на наш взгляд, прекрасно иллюстрирует топография находок на территории Северного Причерноморья сосудов, относящихся к достаточно редкой группе, — панафинейских амфор.
На своеобразие распространения этих редких сосудов в варварских памятниках первым обратил внимание Ю. А. Виноградов ( 1993. С. 44). Целый ряд этих сосудов был обнаружен в разное время за пределами греческих поселений Северного Причерноморья, в составе инвентаря курганов варварской знати юга России (Пиотровский 1924). Совершенно очевидно, что последние обладатели этих амфор никак не могли непосредственно участвовать в спортивных состязаниях и приобретали их каким-то иным способом. Вопрос о том, как именно это могло происходить, равно как и вопрос о том, являлись ли все панафинейские амфоры наградными сосудами или же тиражировались, в русле рассматриваемой темы не представляется принципиальным. В данном случае интересно лишь то, как эти амфоры «вписывались» в контекст местной культуры. С учетом сравнительно недавних находок в Адыгее (Лесков. 1985. Табл. 17. Кат. № 370, 371) сейчас известно шесть экземпляров подобных сосудов, найденных в курганах местной аристократии. Лишь одна из этих находок — в кургане Ак-Бурун — происходит с территории Европейского Боспора; все же остальные были обнаружены на Боспоре Азиатском, в Прикубанье и Подонье. Однако, как показал Ю. А. Виноградов (1993), проанализировавший погребение в кургане АкБурун, этот комплекс имеет целый ряд особенностей, сближающих его с памятниками азиатской части Боспора.
Как известно, панафинейские амфоры непременно имели на одной стороне «канонизированное» изображение Афины, стоящей в воинственной позе, со щитом и копьем в руках. Это изображение на протяжении всего периода изготовления амфор этого типа исполнялось в чернофигурной технике, в так называемой архаистической, плоскостной манере, в отличие от композиций, украшавших другую сторону, которые также выполнялись в чернофигурной технике, однако в большей степени отражали изменения, происходившие в греческой вазописи в процессе развития краснофигурного стиля (Beazly. 1951. Р. 88; Кобылина. 1986. С. 24). Если говорить об осмыслении изображений на этих сосудах представителями туземного мира, их внимание прежде всего должно было привлекать изображение богини-воительницы. То, что панафинейские амфоры часто находились на «ритуальных площадках» в насыпях курганов, вероятно, свидетельствует в пользу сакрального осмысления украшавших их изображений.
Вероятнее всего, именно особенности религиозных верований местного населения восточных рубежей Скифии (Подонья и Прикубанья), связанные
385
с особой «воинственностью» местной версии женского божества, и объясняют своеобразное распространение находок панафинейских амфор на юге России.
Полагают, что формирование у греков предания о воинственных амазонках связано с областями Малой Азии (см., например: Barnet. 1956. Р. 220). Но существовала и литературная традиция, достаточно отчетливо связывающая это легендарное племя именно с восточными рубежами Скифии. Эти представления нашли свое отражение в сообщениях Геродота (Herod., IV, 110-117), Гелланика (Thes., 26; Comm. Lycophr., 332), Псевдо-Гиппократа (De aere., 24). И хотя традиционные попытки толковать эти свидетельства как доказательства особой роли женщин в жизни туземного населения этих областей и были пересмотрены в современной науке (Зуев. 1989; 1996. С. 6-7), все же, очевидно, следует согласиться с исследователями, считающими, что письменные источники донесли до нас некие представления греков о каком-то «воинственном женском начале», ассоциировавшиеся с варварским населением степного течения Дона и Прикубаньем (Скржинская.1991. С. 40 сл.).
6.3. Попытки собственного производства
В рассматриваемую эпоху в кругу антропоморфных изображений, происходящих из варварских захоронений Северного Причерноморья, появляются вещи, отличающиеся грубостью и значительными отступлениями от канонов античного искусства, которые вполне обоснованно считают изделиями негреческих мастеров.
К этому типу относятся два изображения, происходящие из Александропольского кургана на правобережном Приднепровье. Первое из них, венчающее бронзовое навершие, представляет собой женскую фигуру (рис. 46.1 ); руки ее покоятся на талии, верхняя часть фигуры обнажена, нижняя — задрапирована, на шее, очевидно, надета гривна (Толстой, Кондаков. 1889. С. 92. Рис. 75; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 286). Лицо y божества круглое, черты его намечены крайне грубо и схематично. От плеч богини отходит пара крыльев-завитков.
Второе изображение женского божества, происходящее из того же кургана, выполнено в еще более грубой, «варваризированной» манере. Оно изготовлено из железа, золота и серебра. Сочетание этих материалов еще более усугубляет «варварское» впечатление, производимое этим образом (рис. 46.2). В отличие от предыдущего изображения, божество представлено здесь в более сложной иконографической схеме: по бокам его изображены рогатые головы, шеи и, очевидно, конечности (по одной паре) каких-то животных, более всего напоминающих копытных (Толстой, Кондаков. 1889. С. 97. Рис. 84; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. Pl. 260). Вероятно, изгото-
386

Рис. 46. Богини из Александропольского кургана (1 — бронзовое навершие; 2 — бляха)
вивший эту бляшку мастер пытался изобразить богиню держащей этих животных: нечто вроде рук отходит от ее шеи, соединяясь с головами «оленей». Выше основания этих рук расположена пара крыльев в виде узких продолговатых пластин, идущих параллельно основанию бляшки. Фигура показана задрапированной, грудь едва обозначена. Лицо богини овальное, «мужеподобное», черты его грубо намечены.
♦Варварский» облик этого изображения неоднократно отмечался исследователями (Артамонов, 1961. С. 72; Бессонова. 1983. С. 87-88).
Совершенно справедливо отмечался и архаистический тип иконографической схемы, в которой представлено божество — здесь оно изображено крылатым, в окружении пары животных. Схема эта восходит к древнему греческому и малоазийскому типу «Владычицы животных». И. Толстой и
Н. Кондаков (1889. С. 97) и С. С. Бессонова (1983. С. 88) называли богиню из Александрополя Артемидой, М. И. Артамонов ( 1961. С. 73) и Н. А. Онайко (1976. С. 167) — Кибелой. Действительно, при взгляде на это изображение сразу же вспоминается Артемида, держащая за лапы львов, являющаяся главным персонажем в декоре келермесского зеркала.
Вполне вероятно, что Александропольский курган является самым поздним «царским» скифским захоронением на правом берегу Днепра (Артамо
387
нов. 1966. С. 52,58; Мачинский. 1971.С.53; Болтрик. 1987. С. 146-148). По А. Ю. Алексееву, погребения в этом кургане были совершены в период между 320-300 гг. до н. э. (2003. С. 270). Таким образом, возвращение к древней иконографической схеме крылатого женского божества в греко-варварском искусстве соотносится с наиболее поздним этапом существования Великой Скифии.
Появление во второй половине IV в. до н. э. антропоморфных изображений, украшающих изделия, вышедшие из рук варварских мастеров, несомненно, является принципиально новым явлением в процессе развития греко-варварских взаимодействий в сфере искусства. Кроме рассмотренных выше изображений из Александрополя, к таким изделиям относят бляшки из Чертомлыка, представляющие богиню рядом с жертвенником (?), бронзовые навершия из кургана Слоновская Близница (Онайко. 1977. Рис. 1) и Днепропетровской обл., пластину из кургана у с. Аксютинцы (Онайко. 1976. Рис. 4; 6), золотую бляху из Дуровского кургана (Онайко. 1977. Рис. 2). Н. А. Онайко отмечала, что для изображений этой группы, как для мужских, так и для женских, характерны этнографический реализм, большие головы, крупные черты удлиненного в нижней части лица (Онайко. 1976. С. 172-173).
На навершиях из Днепропетровской области можно увидеть примитивные изображения, отлитые в технике круглой скульптуры. Это — единственные изображения человеческих фигур, выполненные в подобной технике в искусстве Скифии, все прочие изготовлены в технике рельефа.
Навершия из Слоновской Близницы венчают композиции, представляющие мужскую фигуру верхом на грифоне, поражающую оленя. Высоко оценив художественную выразительность образов этих изделий, Н. А. Онайко, детально изучившая навершия, отметила несовершенство человеческой фигуры по сравнению с изображениями животных, что вполне объяснимо традициями скифского искусства, долгое время не знавшего антропоморфных изображений; она также показала, что сюжет декора наверший Слоновской Близницы был навеян популярным в Северном Причерноморье мифом об Аполлоне Гиперборейском, и считала, что центры производства степных скифских наверший следует искать в районах, близких к Боспору ( 1977. С. 153 сл.).
По интересному наблюдению Е. В. Переводчиковой, воздействие греческого искусства на искусство Скифии наиболее ярко проявлялось в художественных изделиях из драгоценных металлов. Из этих материалов изготавливались предметы культового назначения, парадное оружие, украшения. Более же «дешевые» бронзовые изделия, особенно тиражированные, в целом гораздо дольше сохраняли самобытность, греческие приемы передачи изображений на таких вещах выглядят отобранными, не нарушающи
388
ми принципов скифского искусства (Переводчикова. 1992. С. 67). К таким изделиям, наиболее устойчивым к античным влияниям и демонстрирующим самостоятельную линию развития, исследовательница справедливо причисляет бронзовые навершия, категорию вещей, характерную для аристократических скифских погребений. Тем более поражает появление в IV в. до н. э. и на этой категории скифских вещей антропоморфных изображений.
Попробуем подвести краткие итоги разделу, посвященному массовому распространению антропоморфных образов в искусстве Европейской Скифии, и наметить, хотя бы в основных чертах, некоторые художественные особенности, отличающие эти произведения, в том числе и те, которые придают им особый, местный «колорит».
1. Для известных нам памятников, украшенных антропоморфными изображениями, можно выделить три основных традиции, в русле которых они выполнены.
• К первой, которую можно условно назвать эллинской, относятся изображения, в которых наиболее отчетливо фиксируется разработка греческих канонов. Сюда можно отнести, например, диадему из КульОбы, бляшки с крылатым божеством из Большой Близницы, бляшки с изображением сидящей женщины с зеркалом и предстоящим скифом. К ней принадлежат и многие изображения в стиле «этнографического реализма», например фриз на чертомлыцкой амфоре, пектораль из Толстой Могилы, сцены на золотом сосуде из Куль-Обы. Все эти вещи, несомненно, вышли из рук греческих мастеров.
• Ко второй, «полуварварской», традиции принадлежат вещи, также сделанные, несомненно, греческими мастерами. Украшающие их изображения в своих деталях находят аналогии в круге синхронных (или же несколько более ранних) изображений, распространенных в античном мире. Однако в целом такие изображения гораздо более сложны (как иконографически, так и семантически) и отличаются от античных памятников яркими и достаточно выразительными чертами. К этому кругу изделий можно отнести «прорастающую» деву на серебряном блюде из Чертомлыка, изображения на налобниках из Цимбалки и Толстой Могилы, композицию на треугольной бляхе из Карагодеуашха.
• К третьей, «варварской», традиции можно причислить изображения, в которых ярко выражены отступления от канонов греческого искусства. К ним относятся изображения на бляшках с сидящей женской фигурой и жертвенником из Чертомлыка, подвески из Мастюгинского кургана, навершие с крылатой богиней и «оленями» из Александрополя, изображения на навершиях из Приднепровья. С большой
389
степенью вероятности можно полагать, что в этих случаях мы имеем дело с изделиями негреческих ремесленников.
2. Ряд иконографических типов и схем имеет прозрачные параллели (сюжетные и стилистические), которые легко можно обнаружить в круге синхронных греческих памятников. К таким изображениям относятся, например, некоторые «прорастающие», «Кибела-Артемида» на подвесках из Толстой Могилы и Любимовки, бляшки из «царских» курганов Приднепровья с сидящей в профиль женщиной и предстоящим скифом. Другие же, например тип стоящего божества с «грифонами-крыльями» и человеческой головой в руке, не имеют близких аналогий в памятниках античного искусства. Часто тиражировались достаточно простые схемы, однако в ряде случаев создавались и достаточно сложные, оригинальные образы (бляшки из Куль-Обы, склепа 1012 в Херсонесе, божества из Толстой Могилы, Цимбалки).
3. Часто для произведений, выполненных в русле эллинской традиции, как правило, так же, как и для созданных в русле традиции варварской, можно отметить ряд отличительных черт и особенностей. Они явились, скорее всего, результатом определенных необходимых уступок местным представлениям, а также в конкретных случаях, могли отражать и требования заказчиков. К этим особенностям относятся:
• гипертрофированность отдельных элементов изображения (например, растительных побегов);
• растительные побеги в ряде случаев устремлены вниз, образуя нечто вроде корневой системы;
• сознательное искажение пропорций в многофигурных композициях. В ряде случаев непропорционально большие головы мужских и женских фигур, «матрональный» облик женских фигур;
• усложненность (по сравнению с греческими прототипами) всего изображения в целом (например, дополнительные изображения, связанные с образом богини, на налобниках из Толстой Могилы и Цимбалки). Общая тенденция движения к усложненности и орнаментальности (при частом огрублении прототипа) при тиражировании образов и развитии их в туземной среде (бляшки с профильным изображением сидящей женщины, «серьги» с богиней и львами);
• вертикальность, симметричность и орнаментальность складок одежды, носящих скорее декоративный характер (в отличие от трактовки складок одежды, подчеркивающих позу или движение человеческой фигуры, более свойственной греческому искусству этого времени);
• произведения, передающие изображения людей, часто выполнены в духе «этнографического реализма» и являются ценным источником информации о деталях реальной жизни варваров. Эти детали касают
390
ся одежды, украшений, оружия, ритуальной утвари (ритоны, округлые сосуды, зеркала), достоверность которых подтверждается находками в вещевых комплексах скифских погребений.
Создавая антропоморфные изображения, предназначенные для сбыта в туземную среду, греческие мастера часто обращались к памятникам несколько более раннего времени (преимущественно V в. до н. э.) или же к произведениям, выполненным в архаистической манере. Возможно, греческие памятники V в. до н. э., выполненные в более строгой манере, в большей мере, чем современные мастерам произведения, передавали настроение торжественности и величественности, которое более импонировало заказчикам. Сравнительно недавно подобное «отставание» от образцов классической Греции было отмечено Е. А. Савостиной и для боспорской скульптуры (Савостина. 2004).
6.4. Хронологический аспект проблемы
Если исходить из имеющихся в нашем распоряжении датировок, то самыми ранними среди антропоморфных изображений классической Скифии оказываются предметы, несущие изображения, выполненные в «эллинской» и «полуварварской» традициях — бляшки из кургана Куль-Оба и налобники из конских захоронений Толстой Могилы и Цимбалки. К этой группе примыкают изображения на подвесках из Толстой Могилы и бляшках из Чертомлыка и Куль-Обы. Отметим, однако, что, как и в архаическую эпоху (ритон и зеркало из Келермеса), самыми ранними оказываются достаточно сложные, оригинальные (и пожалуй, наиболее совершенные в художественном аспекте) изображения. Возможно, все они были сделаны по специальному заказу.
Самыми поздними в круге антропоморфных изображений оказываются образы, представленные на навершиях и бляхе из Александропольского кургана. Грубость, варварский облик этих изделий, возможно, объясняются тем, что они происходят из одного из последних «царских» скифских захоронений в регионе, вступающем в новую эпоху своей истории. Их вполне можно рассматривать в русле общего «упадка» и вырождения материальной культуры старой аристократической прослойки в период, непосредственно предшествующий утрате доминирующего положения в северопричерноморских степях.
6.5. Вопрос о месте изготовления художественных произведений
В IV в. до н. э. лидерство в производстве художественных изделий из металла, сбывавшихся в туземный мир Северного Причерноморья, несомнен
391
но, принадлежало Боспору, где ведущая роль признавалась за мастерскими Пантикапея (Ростовцев. 1925. с. 307; Онайко, 1966а; Piotrovsky, Galanina, Grach. 1986. P. 89; Sheglov, Katz. 1991. P. 26). Для этой эпохи типичным явлением становится производство целых серий металлических изделий, предназначавшихся для сбыта в Скифию. К таким вещам относятся украшения боевого коня (налобники из Толстой Могилы и Цимбалки), обкладки горитов с изображениями «троянского цикла» (курганы Чертомлык, Елизаветовский, Мелитопольский, Ильинецкий), гориты с изображениями битвы (Карагодеуашх, Солоха). ножны парадных мечей с изображением битвы греков с варварами (Чертомлык, 8 Пятибратний курган) (рис. 47), нашивные бляшки.
Анализ и картографирование парадного оружия так называемых Чертомлыцкой и Карагодеуашской серий позволили А. Н. Щеглову и В. И. Кацу предложить гипотезу об изготовлении этих изделий для дипломатических даров правителей Боспорского государства вождям различных независимых племен Скифии (Sheglov, Katz.1991. P. 115). В этом случае примечательны находки оружия этих серий в 8 Пятибратнем кургане и особенно в кургане Карагодеуашх в Прикубанье, отражающие, возможно, заинтересованность боспорских правителей в политических связях с варварами, контролирующими восточные области Скифии. Этому не противоречит и наблюдение над тем, что эти вещи, часто изготовленные по одной матрице, связаны с территориями, отражающими различные локальные варианты скифской культуры.
М. Ю. Трейстер высказал интересную гипотезу о том, что мастерская, призводящая парадное оружие, скорее всего, работала в Пантикапее период между 360-340 гг. до н. э. и была одной из примерно дюжины мастерских, существовавших здесь с начала IV до начала III в. до н. э. Согласно его точке зрения, в этих мастерских работали как выходцы из различных областей Греции, так и скифские мастера; трудности, которые переживала Греция после Пелопоннесской войны, могли способствовать эмиграции на Боспор мастеров из Аттики (Treister. 1999. Р. 79).
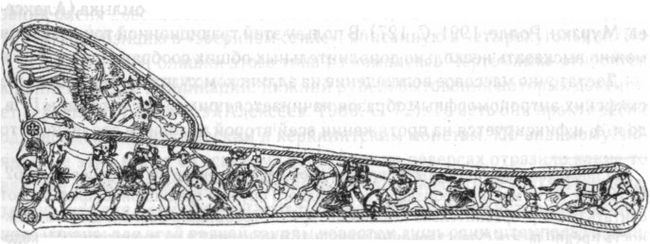
Рис 47. Ножны парадного меча из кургана Чертомлык
392
Как было показано Е. В. Переводчиковой, на рукоятях золотых обкладок парадных мечей чаще прослеживаются приемы, свойственные звериному стилю, чем на ножнах (Переводчикова. 1992. С. 66). Изображения же на обкладках колчанов и горитов обычно относят к чисто греческим как по стилю, так и по сюжетам, однако еще В. Д. Блаватский обратил внимание на наличие в декоре горитов чертомлыцкой серии1 сцены обучения (?) Ахилла стрельбе излука (Блаватский. 1964а. С. 17); сюжет этот, не распространенный в искусстве Греции, «перекликается» со сценами на куль-обском и воронежском сосудах (Раевский. 1970).
Сосуды-кубки округлой формы, игравшие, по-видимому, важную роль в религиозной практике скифского общества, в IV в. до н. э. также изготовлялись в греческих мастерских. Несмотря на сходство сюжетов и композиций на некоторых из них (например, на воронежском и куль-обском сосудах, сосудах с изображением уток из Куль-Обы и Солохи или сцен, представляющих «битву зверей» на двух других кубках из Куль-Обы), не известно двух полностью идентичных сосудов этого типа. Даже если тулово украшалось несложными геометрическими орнаментами, отдельные сосуды все же отличались друг от друга хотя бы в незначительных элементах декора (как, например, кубки из кургана 1 у с. Волковцы и Чмыревой Могилы). H. Л. Грач, изучившая серию кубков из кургана Куль-Оба, выявила два художественных направления, за которыми, по ее мнению, скрывались две совершенно самостоятельные школы, обладавшие свойственными им творческими традициями. Одна из этих школ, по-видимому, находилась в Пантикапее, вторая, продолжившая художественные традиции Семибратних курганов, работала в восточной части Приазовья, возможно, на Северном Кавказе (1984. С. 102-105).
Предметы торевтики, украшенные антропоморфными изображениями, вероятно, также в основной своей массе производились на Боспоре. С мастерскими Пантикапея связывают изготовление бляшек из кургана Куль-Оба (Копейкина. 1986), серебряных вазы и блюда из Чертомлыка (Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991. С. 127). В пользу этой традиционной точки зрения можно высказать несколько дополнительных общих соображений.
Достаточно массовое воплощение на эллинском художественном языке скифских антропоморфных образов начинается примерно с середины IV в. до н. э. и фиксируется на протяжении всей второй половины столетия. Это
1 О последовательности изготовления этой серии горитов см.: Манцевич. 1962. С. 109 сл. Хотя местом производства парадного оружия традиционно продолжают считать Боспор, сравнительно недавнее открытие гробницы в Вергине дает возможность предполагать существование подобных мастерских и на территории Македонии (Andronicos. 1980).
393
время совпадает с периодом максимального расцвета Боспорского государства. Для этого времени можно говорить и о широких экономических и культурных связей Боспора с Афинами (Брашинский. 1963. C. 118 сл.; Гайдукевич. 1949. С. 81 сл.; Шелов-Коведяев. 1985. С. 107; 140-141).
Во главе своеобразного феномена, каким являлось Боспорское царство, находилась династия Спартокидов, негреческое или полугреческое происхождение которой представляется весьма вероятным (Артамонов. 1974. С. 119; Гайдукевич. 1949. С. 55; Шелов-Коведяев, 1985. С. 83-85; Алексеев. 1992. С. 124-125; Мачинский. 1993. С. 17). Подобная ситуация, на наш взгляд, представляется весьма благоприятной для воплощения греческими мастерами скифских божеств в памятниках изобразительного искусства. В этих условиях мастера могли работать на территории самого Боспора (как Европейского, так и Азиатского), находиться (постоянно или же временно) при ставках отдельных племенных вождей, посещать Боспор и работать в Афинах и пр.
В этот период впервые можно говорить о вовлечении греческих центров Северо-Западного Крыма в процесс греко-варварских взаимодействий в сфере искусства. Выше уже упоминалось о находках золотых бляшек в склепе 1012. В то же время, то есть примерно в середине IV в. до н. э., в монетном чекане Херсонеса и Керкинитиды появляются новые, чрезвычайно интересные монетные типы (Зограф. 1951. С. 160-161). Наиболее выразительными, на наш взгляд, являются монеты с изображением на реверсе льва, терзающего быка. Сцены терзания на монетах Херсонеса и Керкинитиды несколько различны: в первом случае бык представлен поверженным (Зограф. 1927. С. 285-395. Табл. 24 М), во втором — как бы только что подвергшимся нападению (Кутайсов. 1992. С. 143 сл.).
По наблюдению А. Н. Зографа, сцена эта по стилистическим особенностям не имеет аналогий в античном искусстве. Наиболее близкое изображение имеет четырехугольная золотая бляшка из Чертомлыка со сценой терзания оленя львом, возможно, оба этих изображения имели общий прототип — композицию в «зверином стиле», вписанную в четырехугольник. По А. Ю. Алексееву, бляшки этого типа из комплекса Чертомлыка относятся к ранней группе аппликаций, нижний рубеж бытования которых достигает середины IV в. до н. э.(Алексеев. 1986. С. 72). То есть они практически одновременны херсонесским и керкинитским монетам. По-видимому, появление этих монет со «сценами терзания» на реверсах отразило какие-то важные эпизоды в жизни этих полисов, имевшие место в ту эпоху. Примечательно, что для Керкинитиды этот тип — самый ранний в истории ее монетного чекана; для этой редкой группы известен лишь один штемпель (Кутайсов. 1992. С. 158).
394
6.6. Скульптура
В связи со всем изложенным выше представляется вполне закономерным, что именно в районе Прикубанья (и отчасти Крыма) дольше всего продолжается развитие местной каменной скульптуры, проходящее под сильным воздействием античного искусства (Ольховский, Евдокимов. 1994. С. 59, 66 сл.). Здесь продолжает развиваться направление, сложившееся еще в конце V в. до н. э., характерными чертами которого являются скульптурность изображений, моделировка ног, узкая талия, широкие плечи. Полагают, что этот канон выработался под воздействием античного искусства в сочетании с местными традициями (Ольховский. 1990. С. 101 -107).
В IV в. до н. э. монументальное искусство в классических районах Скифии — приднепровских степях, очевидно не сумев пережить трансформацию, вызванную античными импульсами, вырождается и практически прекращает свое существование (Білозор. 1994).
В круге памятников, относящихся к «боспорской скульптуре»,1 для конца IV в. до н. э. мы знаем три замечательных и сложных монуметальных памятника. Первый из них — фрагмент фриза со сценой сражения (амазономахии ?) из с. Юбилейного на Тамани, уже упоминавшийся выше (Савостина. 2001а. Табл. I-XV), второй — рельеф из Трехбратнего кургана (Бессонова, Кирилин. 1977). Сюжет его трактуется как «сцена загробного выезда» (Савостина. 1995); особый интерес представляет изображение женского божества, восседающего в повозке или наиске, к которому движется всадник, между ними изображен подвешенный колчан. Сцена имеет несомненную сюжетную и семантическую связь с композициями, представленными на памятниках, обнаруженных в глубинных районах скифского мира (бляха из Сибирской коллекции Петра, ковер из Пятого Пазырыкского кургана) и некоторых более поздних боспорских погребальных памятниках (склеп Анфестерия) (Мачинский. 1978. С. 143-144).
Третий памятник, на наш взгляд, столь же выразителен. Это скульптурная группа из ст. Предградная (верховья Урупа, правый берег р. Кубань), состоящая из двух мужских и одного женского изваяния (Шульц, Навротский. 1973. С. 196. Рис. 4-5). Всем троим изображениям свойственна фронтальность, очевидно, присущая изначально сложившейся здесь греко-варварской традиции антропоморфных изображений. Особенно интересна женская фигура, одетая в смешанный эллино-скифо-меотский наряд — пеплос и плащ, с гривной на шее и ритоном в руках. Интересно и присутствие в композиции двух мужских персонажей, как на некоторых изделиях греко-скиф-
1 К сожалению, в данной работе мы не имеем возможности остановиться подробнее на сложных вопросах, связанных с формированием и развитием боспорской скульптуры.
395
ской торевтики (сахновская пластина, нижний фриз пластины из кургана Карагодеуашх). Появление подобного памятника в столь глубинных районах Азиатского Боспора (восточный рубеж ареала меотской культуры) свидетельствует не только о развитом представлении о женском божестве (божествах) в культуре местного населения, но и о достаточно высоко развитой традиции интерпретации и воплощения этого образа, сложившейся к концу скифской эпохи под воздействием античной культуры.
6.7. Проблема соотнесения отдельных сюжетов и схем с различными регионами туземного мира
Для этого времени существует возможность «привязать» некоторые иконографические схемы и сюжеты, разрабатываемые греко-варварским искусством, к конкрктным областям Скифии. Так, например, схема и сюжет «женское божество и грифон» с архаического времени (Келермес) и до конца скифской эпохи (пластина из кургана Карагодеуашх, калаф из кургана Большая Близница) соотносятся с районом Прикубанья. С этой же областью соотнесен, вероятно, и тип «крылатого божества с отрезанной головой в руке» и сюжет «амазонка и грифон». Исключительно с территорией степного течения Днепра и «царскими» курганами этой области связана схема «сидящая женщина с зеркалом в руке и предстоящий скиф». Тема «женской воинственности» (амазономахия, ареал панафинейских амфор с изображением богини-воительницы) тяготеет к восточным рубежам Скифии — Прикубанью и Подонью.
Скульптурные воплощения женщин, имеющих варварский облик, соотносятся с территорией Боспорского государства. Именно здесь в конце эпохи появляются подобные изображения (рельеф из Трехбратнего кургана, группа из ст. Предградная).
Подводя некоторые итоги последнему, достаточно сложному и насыщенному источниками периоду в истории взаимодействий греческого и варварского искусства на территории Северного Причерноморья, хочется остановиться на некоторых основных тенденциях и проблемах. Это время, связанное с финальной фазой развития Европейской Скифии, приблизительно соответствует четвертому периоду в хронологической схеме, принятой в книге (см. гл. II). Особенно яркие памятники, на основании которых можно судить о греко-варварских взаимодействиях в сфере искусства, относятся ко второй половине столетия.
Итак, IV в. до н. э. (особенно его вторая половина) представляется эпохой глобальных перемен в сфере взаимодействия греческого и скифского искусства. Античное искусство, его приемы, традиции и сюжеты проникают во все сферы культурной жизни туземного общества (вероятно, его аристократической верхушки). Местное искусство, в том числе и монументаль
396
ное, в это время воспринимает не только отдельные образы, но и заимствует и разрабатывает целые композиции, навеянные произведениями греческих мастеров. Главное в этих заимствованиях — восприятие и разработка антропоморфных изображений. Привычные зооморфные образы часто оттесняются как бы на второй план.
Для IV в. до н. э. обращает на себя внимание лидерство греческих художественных мастерских Боспора в производстве изделий для туземных аристократов.
Следы обратного влияния местного искусства, в свою очередь, наиболее ярко проявились в культуре античных центров этого региона. Целый ряд художественных импульсов, очевидно, был получен боспорянами от племен Азиатского Боспора, искусство которых еще в V в. до н. э. выделилось в локальный вариант, наиболее тесно связанный с античными центрами в творческих поисках.
IV в. до н. э. представляется также эпохой, для которой можно зафиксировать «открытость» материальной культуры Скифии для восточных (в самом широком понимании этого слова) импульсов, которые затрагивали и сферу искусства. В качестве примера отметим украшения узды из древнейшей конской могилы Александропольского кургана, выполненные в так называемом греко-иранском стиле (Алексеев. 1993. С. 72-75), поясную застежку в виде крючка, несомненно, тяготеющую к савроматским древностям, золотую пластинку в виде «крылатого единорога», находящую аналогии в среднеазиатских материалах, прежде всего, в вещевом комплексе аму-дарьинского клада (Толстой, Кондаков. 1889. С. 90. Табл. 83). В степных «царских» курганах в это время появляется такой новый и выразительный элемент погребального инвентаря, как повозка, чрезвычайно распространенный и в сарматскую эпоху (Бессонова. 1982. С. 103. Табл. 1), отмеченный также в районе Прикубанья. Согласно реконструкциям, выполненным В. И. Клочко, в IV в. до н. э. в курганах Приднепровья (Бердянском, у о. Корнеевка) появился новый тип верхней женской одежды типа куртки или кафтана, имеющий аналогии в костюме населения Средней Азии (Клочко. 1992. С. 104-105. Рис. 9). Изображения такого костюма не встречаются на памятниках греко-скифской торевтики, однако, по-видимому, не случайно на каменных изваяниях Крыма с рубежа V-IV по начало III в. до н. э. можно увидеть изображения кафтанов (правда, эти памятники представляли мужские фигуры) (Ольховский, Евдокимов. 1994. С. 62). Для Европейского Боспора проникновение новых, восточных элементов показано Ю. А. Виноградовым на примере погребения кургана Ак-Бурун (1875 г.), относящегося к рубежу IV—III вв. до н. э.(1993).
«Открытость» местных памятников второй половины — конца IV в. до н. э. для восточных импульсов, очевидно, можно объяснять как различ-
397
ными политическими акциями и культурными контактами (см., например: Алексеев. 1984; 1992. С. 140), так и миграцией населения из более восточных областей. Представляется весьма вероятным, что греческие центры Северного Причерноморья (прежде всего Боспора) чутко улавливали эти перемены, начавшиеся в туземном мире региона. Очевидно, именно с появлением восточных (в широком смысле этого слова) импульсов связано появление «боспорских» пелик с амазонками, возможное возникновение на Азиатском Боспоре мастерских, производящих изделия «в духе Семибратних курганов» (Грач. 1984).
В настоящее время в научной литературе все большую популярность приобретает точка зрения, связывающая гибель Великой Скифии не столько с вторжением новой волны кочевников, сколько с глобальным кризисом, социально-политическим, а возможно, и экономическим, охватившим скифское общество на рубеже IV—III вв. до н. э. (Полин. 1992. С. 40 сл. Литературу по данной проблеме см.: Щукин. 1994. С. 85 сл.).
Симбиоз местного и греческого искусства, нарушение традиций и запретов, стойко сохранявшихся на протяжении предшествующих периодов, возможно, были также отражением общего кризиса, предшествующего установлению в Северном Причерноморье новой исторической эпохи.
7. Заключение
Подводя итоги изложенным выше соображениям, можно условно выделить в сложном процессе взаимодействия эллинского искусства и искусства Великой Скифии три основных периода и наметить преобладающие в рамках этих периодов тенденции.
7.1. Вторая половина VII — первая четверть V в. до н. э. — время первых контактов
Эпоха в целом, несомненно, благоприятна для культурных контактов, облегченных «открытостью» культуры кочевников и особенностями развития скифского звериного стиля в эпоху архаики. На протяжении этого времени греческий художественный импорт распространился на обширных территориях Северного Причерноморья; были намечены основные тенденции во взаимодействиях в сфере искусства. Развитие скифской монументальной скульптуры не было затронуто влиянием античного искусства. Имеющиеся в нашем распоряжении археологические материалы и их уточненные датировки, пожалуй, нарушают традиционные представления о греко-варварских взаимодействиях в сфере искусства как о постепенном, «равномерном» процессе, идущем «от простого к сложному». Для начального периода
398
этих взаимодействий фиксируется создание сложных, высокохудожественных произведений. В рамках этого периода, так же, как и для последующих, можно выделить этапы интенсивных контактов, а также «лакуны» и периоды ослабления интенсивности.
Активная роль в области греко-варварских контактов в эпоху архаики принадлежала античным центрам Нижнего Побужья; о предположительной деятельности боспорских мастерских можно говорить лишь применительно к самому концу периода.
7.2. V в. до н. э. — время новой «волны» номадов
Перемены, зафиксированные в туземном мире Северного Причерноморья в начале этой эпохи, не нашли отражения в археологических материалах, связанных с проблемой греко-варварских связей в области искусства. Можно лишь зафиксировать «ослабление» интереса к разработке тенденций предшествующего времени (становление антропоморфных образов). Можно говорить и о преемственности и развитии тенденций предшествующего времени. Монументальная скульптура основных степных районов Скифии по-прежнему не подвержена воздействию античного искусства.
С самого начала периода можно уверенно говорить о деятельности боспорских мастерских, производящих вещи (и серии вещей) для сбыта варварам. Специфика этого импорта, а также художественные бронзы из скифских курганов Европейского Боспора, «тяготеющие» к районам Приднепровья, очевидно, отражают связи этого образования с господствующей кочевой ордой. К концу периода в особый регион в сфере взаимодействий эллинского и туземного искусства выделяется Прикубанье.
7.3. IV в. до н. э. — время расцвета и «предсмертной свободы»
Этот период можно рассматривать как эпоху глобальных перемен в системе греко-варварских взаимодействий в сфере искусства, приходящихся на вторую половину столетия. По сравнению с предыдущим временем наблюдается резкое увеличение объема археологического материала, свидетельствующего о контактах в этой сфере. В туземное искусство проникают и получают широкое распространение произведения, украшенные антропоморфными сюжетами, изначально чуждыми скифскому искусству; антропоморфные композиции разрабатываются и в искусстве варваров. Следы этих экспериментов можно проследить в глубинных районах туземного мира: приднепровской лесостепи и восточных областях ареала меотской культуры. Для конца периода можно говорить об усилении «веса» региона Азиатского Боспора (Прикубанья). С этим миром соотносится целый ряд
399
вещей, тем и сюжетов, а также экспериментов в области монументальной скульптуры. Возможно, это является отражением некоторой перемены акцентов в общем русле политике Боспорского государства по отношению к варварам, ориентирующейся в это время на население восточных рубежей Скифии (савромато-сарматский мир).
Влияние античного искусства нанесло сокрушительный удар по самостоятельной линии развития скифской монументальной скульптуры: ее эволюция под сильным воздействием традиций греческой скульптуры продолжается лишь на территориях, граничащих с Киммерийским Боспором — в Крыму и Прикубанье.
Подавляющее большинство художественных вещей (и серий вещей), предназначавшихся для сбыта варварам, очевидно, связано с мастерскими Боспорского государства. Топография памятников, где были найдены эти изделия, по-прежнему ясно указывает на основную направленность политических интересов этого образования в классические регионы Скифии. Однако для этого времени можно уловить и некоторое смещение акцентов его внешней политики в сторону Азиатского Боспора. В памятниках туземного искусства Азиатского Боспора можно выявить значительное воздействие античного искусства; в свою очередь, греческие центры, очевидно, получили отсюда целый ряд культурных импульсов. Возможно также, что территория Азиатского Боспора играла роль своеобразного «проводника» для восточных (в широком понимании этого слова) инноваций, появляющихся в скифской археологической культуре в эту эпоху.
Для середины — второй половины столетия впервые отмечено участие греческих поселений Северо-Западного Крыма (Херсонес, Керкинитида) в процессе греко-варварских взаимодействий в сфере искусства.
Слияние греческого искусства с искусством Скифии, наиболее полно отразившееся в памятниках второй половины IV в. до н. э., привело не только к созданию шедевров греко-скифской торевтики, но, очевидно, в значительной степени и к нарушению традиций и запретов, стойко сохранявшихся в местном искусстве в предшествующую пору. Ломку старых канонов, эксперименты в области традиционного искусства, проходившие под сильным воздействием искусства греческого, фиксируемые для финального периода в истории Европейской Скифии, по-видимому, можно рассматривать как один из многочисленных симптомов конца скифской эпохи в северопричерноморских степях.
Подготовлено по изданию:
Греки и варвары Северного Причерноморья в скифскую эпоху / отв. ред. К. К. Марченко. — СПб. : Алетейя, 2005. — 463 с. ; ил. — (Серия «Античная библиотека. Исследования»).ISBN 5-89329-800-0
© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005
© «Алетейя. Историческая книга», 2005