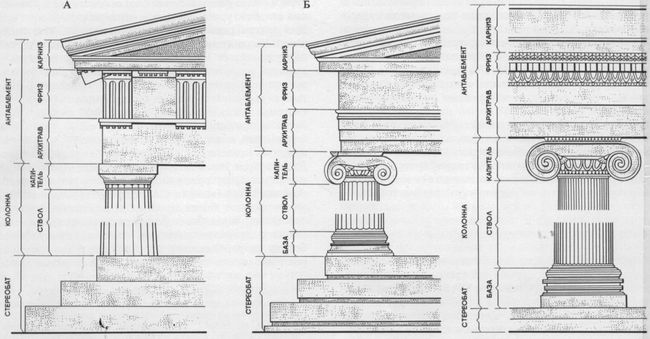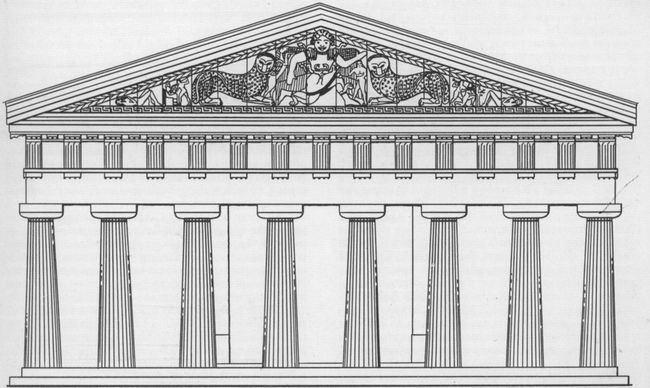58
Глава I
ИСКУССТВО АРХАИКИ
Cложение и расцвет греческой архитектуры в ее классических формах составляет великий вклад архаики в историю античного и мирового зодчества. Первые ростки новой архитектуры возникли еще в VIII в. до н. э., но решающий период ее развития наступает в VII в. до н. э., достигая своей кульминации в пределах архаики в VI в. до н. э.
В эту эпоху архитектурное лицо полиса определяют храм бога, покровителя города, и агора — площадь народных собраний (часто, особенно вначале, служившая и рынком). Постепенно вокруг этих двух центров уже в эпоху классики возникают другие сооружения, предназначенные для общественной жизни эллинов: гимнасии, часто расположенные в зоне садов или рощ, булевтерии (помещения для заседаний общественных органов власти) и, наконец, с развитием театра как государственно-культовой формы духовной жизни (в конце VI в. до н. э.) возникают здания театров (первые каменные театры были сооружены в конце V в. до н. э. в Сицилии).
Так складываются типичные принципы градостроительства, при котором выразителем идейно-художественной и пространственно-пластической организации облика города становились здания, воплощавшие дух его общественной жизни и обеспечивающие дифференцированность его деятельности. Поэтому социальная функция греческой архитектуры, ее идеологическая цель, ее художественный пафос были глубоко отличны от сурового, тяжеловесно авторитарного пафоса архитектуры кремлей и дворцов ахейских царей.
В возникающих полисах меняется роль кремля — акрополя. Он перестает быть царской крепостью, оборонявшей округу от внешних врагов. Город сам становится центром поселения. Смысл его существования определялся интересами живущих в нем сограждан. Если в ранней архаике расположенный на высоком месте акрополь и служил местом укрытия от врагов, то постепенно, но мере разрастания городов, обносимых стенами, он в большинстве случаев терял это значение. Центр народной власти, места общих народных собраний, заседаний советов старейшин, коллективного суда — ареопага не отождествлялись с акрополем. Они находились в гуще жизни полиса — агоре или, если выносились особо, то не на акрополь, а на другое возвышенное место (например, холм ареопага в Афинах). Поэтому все чаще акрополь приобретал значение культового центра жизни города-государства, его символического сердца.
Решительное изменение всей социальной и эстетической роли архитектуры, общий характер новых эстетических и этических идеалов предопределили возникновение новых типов планировки города и новых конструктивных решений общественных зданий. Новая система конструктивных и связанных с ними художественно-пластических решений привели к образованию ордерной системы (от латинского слова, означающего порядок, строй). Греческая ордерная система оказала огромное влияние на ряд последующих эпох в истории мирового зодчества — эллинизм, Древний Рим.
В какой-то мере элементы этой системы в трансформированном и частичном виде применялись в европейском средневековье. В своем римском варианте они были возрождены и видоизменены в Италии XV—XVI веков. Позже и барокко и классицизм по-своему опирались на ордер (особенно применительно к фасадной стороне архитектуры). Великие достижения русского классицизма конца XVIII — первой трети XIX века являлись самобытной, применительно к особенностям русского общества и его эстетического сознания творческой переработкой, восходящей к ордеру, предшествующей европейской архитектурной традиции. Вплоть до середины XX века доживает поверхностнофасадное, уже, по существу, эклектически-украшательское подражание ордеру. Однако последним периодом, когда та или другая форма творческой опоры на ордерную систему была плодотворной, следует считать примерно первую треть XIX века — время творчества Росси и Воронихина, время последних органичных мастеров классицизма в Западной Европе.
Как бы то ни было, живучесть ордерной системы, ее способность к плодотворным стилистическим преображениям в последующие эпохи оказалась удивительно длительной. Очевидно, она адекватно выявляла не только возможности, скрытые в строительной технике своего времени, не только пластически зримо отражала временные интересы рабовладельческого общества античного полиса. В пределах этих интересов, в рамках этой идеологии она пластически совершенно выражала то продвижение в овладении миром, в его разумной переделке, приспособлении к нуждам
59
человека, ту меру осознания человеческого интереса и достоинства, тот уровень эстетического восприятия мира, которые представлялись в эпоху антики и в периоды расцвета гуманизма последующих эпох объективно ценным человеческим завоеванием. Поэтому и сегодня так глубоко то эстетическое чувство, которое нас охватывает на афинском Акрополе, при посещении Пестума или Агридженто.
В наши дни архитектура решительно порвала с маскарадной фасадностью псевдоклассики второй половины XIX — начала XX века и обратилась к эстетическому осмыслению новых задач, которые перед зодчеством ставят градостроительство, современные возможности строительных материалов, а главное, новый круг социальных проблем. Все же и сегодня многие зодчие чувствуют свою связь с некоторыми глубинными, основополагающими для зодчества решениями, которые нашла греческая архитектура.
Речь идет, конечно, не о подражании самим ордерным формам. Не только Райт и Корбюзье, братья Веснины и Леонидов отказались от них в 20-х годах, но и все огромное государственное строительство в СССР, практические и идеологические цели которого определены партией, ведется вот уже давно во внеордерных формах. Однако внутри, казалось бы, единой современной мировой архитектуры идет борьба разных концепций ее социально-общественной роли, меры и характера пластической образности, ее так сказать духовно-содержательной ценности. Внеордерная архитектура может находить и находит глубоко органические образные духовно-содержательные решения. Однако она может приобретать и характер холодного функционализма, может использовать возможности современной техники для создания фантасмагорических, порожденных произволом субъективной фантазии форм. Наконец, она может низвестись до уровня тупого утилитаризма, до казарменной безличности массовой поточной строительной продукции. Заметим, что особенно последний вариант решения глубоко чужд нашей концепции зодчества как силы, которая создает прекрасную среду жизни человека коммунистического общества.
В конечном счете борьба тенденций в современной архитектуре отражает я специфических формах борьбу между двумя противоположными системами с их антагонистическими представлениями о социальном прогрессе и социальном использовании современной техники и архитектурного строительства, о путях развития современных духовных, этических и эстетических ценностей человеческого общежития.
В этих условиях гуманистические искания лучших зарубежных архитекторов (Райт, поздний Корбюзье) и главные устремления нашей социалистической эстетики и наших архитектурных исканий не только противостоят элегантному утилитаризму архитектуры Запада. Они вместе с тем в своей основе связаны с коренными принципами гуманистической, глубоко образной архитектуры Древней Греции и даже с некоторыми ее градостроительными идеями.
Чтобы лучше представить себе реальное место греческой ордерной архитектуры в жизни полиса, следует несколько подробнее остановиться на том, что, собственно, представлял собой полис в VII—V вв. до н. э.
Под термином «полис» древние разумели два близких, но не буквально совпадающих понятия1. Во-первых, и это основное, под полисом понималась некая гражданская общность коллектива свободных со своими государственными и культовыми установлениями, со своими формами обеспечения господства над несвободными, с таким материализованным выражением этого единства, как агора и храм. Важным элементом, не всегда обязательным, был кремль — твердыня, акрополь. В этом смысле полис мог не образовывать города в нашем смысле слова, а являться центром сельской округи. Так, собственно городские формы бытия полисов не получили своего развития в землевладельчески-пастушеских, отстающих в темпах эволюции областях Аркадии. Один из могущественнейших полисов — Спарта — долго не приобретал соответствующий городской жизни облик.
Во-вторых, под полисом понимали собственно городской центр, обнесенный стенами и густозаселенный. При этом обычно именно город, вокруг которого формировалась его сельская зона, был ядром полиса как государства.
Иногда города-государства античности сравнивают со средневековыми вольными коммунами Европы. Оставляя в стороне то, что они являются детищами разных общественных формаций и культур, следует отметить следующие существенные различия (при известных элементах сходства): городская коммуна средневековья чаще всего являлась частью большого феодального государства, занимала свое место в феодальной иерархии, более или менее реально зависела от своего ближайшего сюзерена или, освобождаясь от него, переходила под покровительство короля или императора. Греческие полисы были полностью суверенными государствами.
Вторым важным различием было фактическое и юридическое неравенство положения между жителями деревни и города в средневековой Европе. Первые были крепостными феодалов, вторые очень рано стали лично свободными и образовали пользующийся широким самоуправлением коллектив (тоже со своей строго регламентированной социальной иерархией). Следовательно, город был чем-то принципиально иным, чем крепостная деревня.
Население греческого полиса, часто живя в городе, занималось сельским хозяйством. Свободные крестьяне, живущие на земле за пределами города, тоже были полноправными членами полиса, участвовали в народных собраниях, избирались на должности и так далее. Конечно, у них были и свои специфические интересы по сравнению с ремесленниками, как у тех по сравнению с купцами, но все они были свободными членами полиса, могли трудиться сами, могли использовать труд рабов.
В старых центрах расселения, восходящих еще к ахейским державам или возникших в_Х—VIII вв. до н. э., город рос и слагался стихийно. Небольшие, особенно в начальный период архаики, глинобитные одно-двух-этажные домики лепились друг к другу, складывалась беспорядочная сеть узких улочек и переулков. Жизнь
1 Подробно этот вопрос освещен в статье В. Д. Блаватского «Античный город». — В сб.: «Античный город». М., 1963.
60
в доме, как и до сих пор в народной архитектуре Средиземноморья, концентрировалась во внутренних двориках. Поэтому проблема разработки представительного фасада частного дома (за исключением некоторых богатых городов малоазийской Греции, где господствовало олигархическое правление знатных купцов) никак не ставилась. Да обычно не было и условий для обзора такого фасада.
В храме—символическом центре культовой жизни полиса, влекущем к себе традиционные процессии горожан, несколько позже в гимнасиях, театрах и так далее эллин видел меру могущества, величия и своего города и самого себя. Дома же главным образом отличались целесообразной функциональностью своего устройства, разумной приспособленностью к условиям климата и быта. Растущий в ряде полисов дух равенства, поддержанный к тому же теснотой городской территории, способствовал относительному, конечно, равенству отведенных участков. Различие в уровне зажиточности там, где не господствовали жесткие уравнительные законы в организации быта, сказывалось отчасти в большей просторности дома и главным образом в большем богатстве утвари, ваз, иногда более богато раскрашенном интерьере. Однако не только в VI, но даже в конце V в. до н. э., то есть в годы приближающегося кризиса полиса, Сократ, со слов Ксенофонта, склонного представлять традиционно господствующие мнения, полагал, что в жилище «картины и разные украшения гораздо больше отнимают удовольствий, чем доставляют их». Конечно, в V в. до н. э. иные богачи уже вводили в дом «картины и разные украшения», но даже тогда это воспринималось как нечто противоестественное, чуждое концепции целесообразно прекрасного жилья. Так, когда Алкивиад, кстати сказать, поклонник Сократа, прибег для украшения своего жилища к услугам известного тогда живописца, это вызвало всеобщее возмущение граждан города-государства.
Однако ни город в его жилой части, ни само жилье не представлялись чем-то совершенно лишенными порядка и своей красоты. Правда, старые кварталы древних городов поражали путешественников и в позднейшее время бедностью зелени и узостью переулков. Все же именно в годы зрелой архаики зарождается стремление видеть город как единое целое, внести в него меру, порядок, обеспечить его нормальное функционирование. Кстати сказать, рационализм, стремление к функциональной эффективности и жилья и города в целом, нашедшие свое кульминационное выражение в V в. до н. э., проявляют себя вполне явственно в период зрелой архаики. Функциональный рационализм жилья, выработка гибкого типового решения его планировки — характерные черты вообще народной архитектуры — при образовании городского конгломерата не исчезли, а наоборот, благодаря условиям социального быта, острому, ищущему всюду «разумную меру вещей» уму греков получают свое сознательное развитие. Дом стремятся строить так, чтобы применительно к климату в нем было прохладно летом и не холодно зимой. В VI в. до н. э., как свидетельствуют раскопки, сложился тип дома, где обращенные во внутренний двор жилые комнаты были повернуты дверьми к югу. Так как окон не было, свет проникал в двери. Зимой лучи солнца, попадая сквозь двери, согревали комнаты, просушивали их, оберегая от сырости. Навес на столбах перед жильем предохранял летом от лучей высоко стоящего солнца, создавая тень.
Конечно, конкретные формы функционально построенного жилья в наше время совершенно иные. Все же мудрая забота о целесообразном, удобном жилье — принцип более близкий и понятный нам, хотя не всегда достаточно последовательно осуществляемый, чем принцип представительно показных, неудобных планировок жилых интерьеров XIX века (и тем более, чем процветающее уже с эпохи эллинизма сочетание дворцов и трущоб, которых не знал или почти не знал греческий полис зрелой архаики и классики).
Дух разума и порядка все более дает себя знать и в общей планировке полисов с конца VII в. до н. э. Появляется идея о главной или главных магистралях, обеспечивающих движение и удобную связь с портом, связывающих город с акрополем, агорой и так далее. Наиболее явственно рационально планирующее начало в организации городской жизни проявлялось во вновь воздвигаемых греческими переселенцами городах. Таковы были полисы греческой Сицилии. В некоторых городах осуществляется разбивка территории на стандартные по размерам кварталы (Посейдония). Примечательна в этом отношении планировка Агридженто. В нем достаточно четко усматривается выделение строителями трех зон: порта с прилегающими строениями, жилой зоны и зоны храмов. Жилые кварталы не представляли собой совокупности небольших домиков, теснящихся вокруг узких проулков. Существовало несколько больших магистралей. В жилую зону также были введены большие пространства, предназначенные для садов и общественных сооружений. На гребне крутого и длинного холма в юго-восточной части города в свободной гармонии возвышалась цепь величественных храмов — собственно храмовая зона. Агридженто уже в VI в. до н. э. представлял собой удивительно продуманную целостность, свободно соотнесенную с рельефом местности и с пейзажной средой в целом. Он содержал в себе те элементы расчленения города, которые разрабатываются и в современном урбанизме (так называемый зоннинг). Любопытно, что планировка Агридженто (его облик был предопределен около 580—560 гг. до н. э. работами, начатыми при тиране Далорисе) не сводилась к жестко рациональной шахматной системе планировки, столь распространенной, по крайней мере в качестве градостроительного идеала, в V в. до н. э. (так называемая гипподамова система). Его решения поражают гибкой дифференциацией, свободной органичностью целого, основанной на гармоничном контрасте жилой и храмовой зон. В какой-то мере этот принцип свободно несимметрического равновесия нашел свое преображенное выражение позже в свободном равновесии, гармонии контрастов фидиевского афинского Акрополя. Как бы то ни было, сложное и богатое соотношение порядка и свободы, столь плодотворно разрешаемое в искусстве классики, находит свое выражение в урбанистических решениях архаики. Каковы бы ни были эти решения, мы видим, что в них возникает проблема взаимоотношения жилых кварталов и храмов. Храмы в целостности города жили
61
иной мерой ценностей, чем жилье, выражали иную, высшую сторону не только материальной, жизненнобытовой, но и духовной, культовой, идеологической жизни полиса. Действительно, в духовно-эстетической жизни древнего эллина всегда существовало стремление создать вырастающий из потока быта и жизни, облагораживающий, осмысляющий бытие, связанный с ним, но все же не тождественный ему мир духовных ценностей.
Это был величавый мир эпоса, взволнованный, ритмически приподнятый над повседневностью мир мелоса. Позже возник грозный мир трагедии. Во время трагического действа греки видели своих сограждан, выступавших в обличии мифических героев, говорящих и поющих слова на величаво архаичном языке. Этот язык был, однако, тоже понятен народу, и в нем он находил ответ своим глубочайшим нравственным и эстетическим потребностям.
Подобно этому к VI в. до н. э. сложилась великая ордерная пластическая система, сложился облик храма. Храм господствовал над городом, он был связан с важнейшими моментами в общей жизни гражданского коллектива и находил ему особенно глубокое, величавое воплощение. Связанный с культом и, следовательно, с мифом, храм был мифическим жилищем бога. Он как бы воплощал и единство мифических представлений о гармонии космоса, о мудром величии мифического покровителя города и разумной ясности находимой человеком меры вещей. Вся образная жизнь храма неотделима' От обусловленного мифом эстетического чувства грека.
Поэтому храмовая ордерная архитектура Древней Греции при всей функциональной целесообразности своей конструкции, эстетически акцентируемой зодчими, глубоко образна. Ее отличие от жилища состоит в качественно иной мере идейно-эстетического начала. Нечто существенное отличает ее от той красоты, которая сводится лишь к наглядно выраженной целесообразности. С этой иной природой храма, видимо, связано и замечание Сократа, которое приведено у Ксенофонта: «Для храмов и жертвенников, — говорил Сократ, — нужно выбрать место, которое видно отовсюду, но где мало ходят, потому что приятно, увидев храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь в чистоте»1.
Сегодня Парфенон, Шартрский собор, церковь Покрова на Нерли влекут нас не для молитвы. Но значит ли это, что от всего их обаяния осталась лишь эстетика наглядно выраженной конструктивной целесообразности? Думается, желание обрести чистоту в общении с образами зодчества не умерло и сегодня в человеке.
АРХИТЕКТУРА
Обратимся к эволюции монументальной, преимущественно храмовой, ордерной архитектуры, к становлению ее эстетических идеалов. Храм был тем архитектурным сооружением, в котором получили свое наивысшее воплощение принципы греческого зодчества, на опыте строительства которого вырабатывалась греческая архитектурная художественная система, сложились архитектурные ордера.
Классическим типом греческого храма стал периптер2 — прямоугольное здание, окруженное со всех сторон колоннадой (так называемым птероном, что значит окрыленный, оперенный). В своих основных чертах тип периптерного храма сложился во второй половине VII в. до н, э. Дальнейшая эволюция храмовой архитектуры VI в. до н. э. была связана с совершенствованием системы конструкций и пропорций периптера. Периптер давал возможность художественно полноценного восприятия храма со всех сторон и придавал ему пластическую цельность.
Основные элементы конструкции периптера народны по своему происхождению. От деревянного зодчества с глинобитными стенами идет двускатная крыша, структура перекрытия — антаблемента — от деревянных балочных перекрытий, каменные колонны восходят к деревянным столбам. Однако переход от деревянных столбов и глинобитных стен к каменной кладке не только требовал известных изменений в конструкции, но и выявления возможностей камня в связи со складывающимся пластическим обликом здания. Поэтому конструкции греческих храмов не представляли собой механического перенесения схемы деревянных строений в каменное зодчество. При переходе к камню постепенно видоизменялись и пропорции, и пластическая характеристика основных форм храма, и характер орнамента, и многое другое.
Эллинские строители стремились подчеркнуть и развить скрытые в самой конструкции здания — в обусловленных его функциональным значением пропорциях — художественно выразительные, собственно образные эстетические моменты. Более того, они преобразовывали их в законченную систему архитектурного языка. Строго продуманное единство строительно-конструктивной, функционально-утилитарной и собственно образно-эстетической сторон архитектурного сооружения нашло свое воплощение в целостной архитектурной системе — ордере.
Для ордера характерно эстетическое выявление упругого, живого равновесия несущих и несомых частей сооружений, то есть пластического, телесно-скульптурного восприятия формы. Отсюда особая скульптурность и архитектурного образа с его малоразвитым внутренним пространством. Принципы ордерной системы наглядно воплощаются уже в порядке и связи основных элементов конструкции: основания постамента, вырастающей из него колоннады и лежащего на колоннаде перекрытия — антаблемента. Даже совсем незначительное изменение пропорций в масштабе ордера давало возможность видоизменять образный строй здания. Сложение зрительного образа храма шло от более простых и массивных форм — основания, через более дифференцированную и пластически напряженную жизнь колоннады к особенно богато разработанному перекрытию, в которое широко вводились скульптурный декор и развернутые
1 Ксенофонт. Сократические сочинения. М.—Л., 1935, с. 5.
2 Другие формы храма применялись при создании небольших зданий: храм «в антах» (прямоугольное здание с двумя колоннами на фасаде, помещенными между выступающими торцами стен — антами), п{юстиль и амфипростиль (колоннады портиков выступали перед фасадом с одного или обоих концов строения).
62
сюжетные скульптурные группы. Так, ощущение твердой устойчивости постамента сменялось упругим напряжением несущего усилия колонн и тяжести горизонтального перекрытия. Некоторое завершающее успокоение создавалось покатостью треугольников фронтона, а с боковых точек зрения — пологим скатом крыши, жесткий контраст вертикалей колонн и горизонталей перекрытия разрешался чувством их гармонического слияния.
Исходя из этих эстетически осознанных элементов конструкции, греческие зодчие шли дальше, сообразуясь с глубоким идейным значением функции храма в жизни общины, стремясь воплотить сам идеал величавой гармонии целого, достижение которого мыслилось как одна из целей полисного устройства. Стремясь приобщить к чистоте общающегося с храмом свободнорожденного, они акцентировали соответствующим образом пропорции, подчеркивали одни, смягчали другие элементы конструкции храма, создавали определенный пластический образ, исполненный глубокого духовного содержания.
Это единство конструктивно-вещественного момента с собственно духовным эстетическим аспектом архитектурного образа, достигнутое, казалось бы, простейшими приемами в ордере, составляет особую ценность урока, даваемого нам греческой ордерной архитектурой. Эволюция ко все большей гармонии, создание новых образных решений при почти неизменной технике, выражаемых в видоизменениях ордера, были в значительной мере обусловлены именно идейнообразной эволюцией культуры.
Современного зрителя поражают согласное усилие, которым строй колонн периптера подъемлет немалую тяжесть перекрытия, своеобразное ощущение и «особости» каждой колонны и целостности всей колоннады. Но и у него созерцание периптера вызывает также мысль об аналогичности этого согласного усилия тому могуществу, которое в идеале несло в себе стройное согласие объединяющей свободных граждан дисциплины, гражданского единства полиса. Было что-то общее в строгом строе дорической колоннады, в сурово стройных рядах гоплитов и в величавом порядке изображений торжественных народных процессий, недаром введенных в VI и V вв. до н. э. в алтарные композиции и помещаемых на стены самих храмов: Для древнего грека с его стремлением антропоморфировать все сущее, с его тягой уловить и в космосе, и в полисе, и в зодчестве, и в человеке, и в вазе общие законы меры, пропорции, ритма, разумности уподобление колонны человеку было чем-то большим, чем простая эстетическая ассоциация. Некая человечность, скрытая, но ощутимая, содержалась в колонне, подъемлющей груз карниза (подобно Атланту, держащему небо, или деве, несущей на голове корзину). Поэтому не раз колонна и пилястра замещались человеческой фигурой (всегда в дорическом ордере — мужской, а в ионийском — женской).
В течение ранней архаики определились две основные ордерные системы: дорическая и ионийская (близкий к ионическому эолийский ордер не сыграл большой роли в развитии античной архитектуры). Дорический ордер сформировался, видимо, на материковой Греции путем самобытного развития строительных навыков и традиций самой Греции, включая традиции микенского зодчества. Ионийский ордер сложился на островах Ионийского моря и на малоазийском побережье Греции. В какой-то мере он был связан с традициями малоазийской древневосточной архитектуры.
Схема греческих ордеров. А. Дорический ордер. Б. Ионийский ордер: слева — аттический вариант, справа — малоазийский
63
Дорический ордер в большей мере, чем ионийский, разрабатывая строгую гармонию пропорций периптер-ного храма, выявлял архитектоническую структурную основу зодчества. Ионийский ордер отличался большей декоративной пышностью, особенно в своем во сточном, малоазийском варианте. В собственно Греции, где ионийский ордер появляется сравнительно поздно, он становится более стройным и изящным. Именно сравнение ионийской колонны в ее греческом варианте с дорической и породило еще в древности уподобление ионийской колонны началу женского изящества и стройности, дорической — мужскому началу силы и мощи.
Важно также подчеркнуть, что греческая ордерная система не представляла собой жесткой схемы, механически повторяемой в каждом очередном решении. Конкретное художественное решение всегда носило творческий характер. Единство строгой цельности принципа и свободной естественности в его конкретном осуществлении — существенная особенность античного эстетического сознания, по-иному проявляющегося в самых разных родах художественной деятельности, будь то ордерная система в зодчестве, канон в скульптуре, система типов ваз или строгая каноничная структура драмы.
При строительстве каждого храма зодчий следовал ордерным принципам и участвовал в их уточнении и развитии, искал оптимальные варианты решения. Вместе с тем каждый храм был создан именно для данного места, для данных условий. И это сказывалось не только в безошибочном выборе наиболее выразительного месторасположения храма по отношению к окружающей среде, но также и в индивидуально находимых масштабах, пропорциях самого сооружения. Поэтому каждый храм, созданный греческими мастерами, вызывает в зрителе чувство художественной неповторимости, в каждом храме воспринимаются и типичность, и стилевая законченность решения, и его живая индивидуальность.
Огромное значение имел выбор Места для сооружения храма. Греческий зодчий так ставил храм на выступающий мыс или находил такое место на склоне холма, что не только он удивительно органично вводился в окружающий пейзаж, но и сама зона природы— выступ, склон, которые непосредственно примыкали к храму, — включалась в жизнь его образа1. Хотя греки не любили проводить обширных нивелировочных работ и избегали грубо нарушать среду, в которой возникал храм, они все же в меру необходимости применяли насыпи и другие нивелирующие почву сооружения. Поэтому и субструкции и стереобат — основание периптера — мыслились как бы переходным звеном от окружающей среды к самому сооружению. Они были и архитектурно оформленной средой, примыкающей к храму, и одновременно началом самой ордерной архитектурной конструкции. Они смягчали то сопоставление разумной человеческой структуры и стихийной жизни природы, которое, например, так резко осуществляется в пирамидах и зиккуратах. Храм не только противостоял природе, среде, но и вырастал из нее. Он был чем-то качественно иным, чем мир природы, но это иное как бы выкристаллизовывалось из него. (Храм господствовал над средой и гармонически был ей созвучен. Подобный принцип в совершенно иных стилевых формах можно узнать и в церкви Покрова на Нерли и в Джвари, вообще же соотношение архитектуры и мира, их взаимопроникновение в средние века становятся сложнее и динамичнее, чем в эпоху античности. Особое значение в греческой архитектуре играл цвет. Так, при строительстве храмов применялась полихромия, в частности в антаблементе, где при помощи красной и синей красок выделяли вертикальные и горизонтальные элементы перекрытия. Вообще приподнятая цветность, интенсивность зрительного впечатления — характернейшие черты античной культуры. Это сказывалось не только в архитектуре, но и в раскраске рельефов и скульптур. В архаике — это яркая и декоративная раскраска, в классике — более сдержанная, но скульптура всегда «жила» не в белой, отвлеченной объемной форме, а в своеобразной красочной пластичности.
Современному зрителю, приученному к музейным римским мраморным белым копиям и в большинстве случаев однотонным фотографиям развалин храмов, с которых к тому же сошла покраска, трудно представить этот яркий мир античных (особенно архаичных) сооружений и статуй. Для статуй это представление все же можно получить благодаря раскопкам последних десятилетий. Необычный «цветущий сад» скульптур — зал музея афинского Акрополя, где выставлены архаические коры, — поражает утонченной музыкальной поэтичностью цвета.
Храмы, особенно в эпоху архаики, часто воздвигались не из мрамора, а из серовато-серебристого, иногда золотисто-сероватого известняка или из крепкого золотисто-медового песчаника. Сегодня мягкая, чуть золотистая, сероватая коричневатость, например так называемой Базилики в Пестуме или агриджентских храмов, образует красивый цветовой аккорд с синим южным небом, на фоне которого они вырисовываются, с серебристой листвой олив, с редкими купами зелени на рыжеватой земле. На деле в древности все обстояло иначе. Чаще всего стены и колонны таких храмов белились, наиболее ответственные детали архитектурной конструкции ярко раскрашивались. Это тем более относилось к скульптурному декору — акротериям, стилизованным скульптурам или растительным формам, украшающим углы крыш и верхушки фронтонов, к рельефам или скульптурам фронтонов и метоп.
Надо сказать, что при всей эстетической выразительности структуры храма, его объемных форм в нем не фетишизировалась природная красота самого материала, его чувственная вещественность. Если это был благородно сияющий белизной мрамор, греки использовали и не маскировали эти соответствующие эстетическому замыслу качества; если нет, они не колеблясь покрывали тонким слоем стука, маскировали природный материал. Архитектурная художественная концепция столь «конструктивных» греков была
1 Таковы были цепочка храмов, венчающих плато крутого холма в Агридженто; помещенный на склоне холма храм на острове Эгина; венчающий мыс, выступающий в море, храм Посейдона на мысе Сунион и так далее.
64
весьма далека от некоторых современных направлений архитектуры, например «брутализма», обыгрывающего в чисто эстетических целях шершавость фактуры бетона, следы опалубки на поверхности архитектурной формы и так далее. Логика конструкции в ее общей форме, соотношении несущих и несомых частей была для них исходной. Храм должен был быть сооруженным со всей добротностью, аккуратностью. Вместе с тем он должен был выражать ту идею праздничной, приподнятой над каждодневностью мифической реальности, которую несло в себе жилище бога. Красота самих результатов труда человека, эстетическая преображенная логика, содержащаяся в самой структуре сооружения, в конечном счете красота и ценность архитектурного образа — вот чем руководствовались древние зодчие.
Вообще же цветность присуща архитектуре. Нам, знающим бело-желтые, бело-оранжевые аккорды русского «штукатуренного» классицизма, это может быть особенно понятным. Следует вспомнить, что и сегодня, например народная архитектура Средней и Южной Италии, знает яркую раскраску своих сооружений. Проблема введения цвета в зодчество постепенно начинает осознаваться и в нашем современном градостроительстве.
Зарождение дорического периптера относится к рубежу VIII—VII вв. до н. э. Представление о процессе постепенного сложения Периптерного храма дает история перестроек одного из древнейших храмов ранней архаики — храма Геры в Олимпии. Его первоначальное ядро состояло из пронаоса и целлы-наоса с расположенными внутри двумя рядами столбов. При строительстве был применен сырцовый кирпич. Стены дополнительно укреплялись балками, столбами, которые так же, как и балки перекрытия, были деревянными. Камень применялся более скупо (основание стен, стереобат). В первой половине VII в. до н. э. храм Геры был перестроен, частично расширен и лишь тогда окружен деревянной колоннадой периптера. Мастеров еще не интересовали ясные пропорциональные отношения форм. Отсюда чрезвычайно удлиненные пропорции сооружения с соотношением колонн 6:16. В дальнейшем колонны заменялись каменными. Этим и объясняется их разностильность — от чрезвычайно архаических по пропорциям с сильно сплющенным эхином (основная часть капители) до колонн, близких архитектурным формам поздней архаики. Известно также, что еще в классическое время среди каменных колонн доживали свой век и несколько деревянных. Если храм Геры являет собой раннюю форму постепенного становления ордерной системы, то храм Артемиды на острове Корфу, построенный в начале VI в. до н. э., дает пример несколько более развитого дорического периптера. Однако и ему свойственны известная тяжеловесность объема, приземистость пропорций колонн, грузность слишком крупного фронтона. Пафос почти грубой мощи — типичная черта ряда памятников зодчества и пластики ранней дорической архаики.
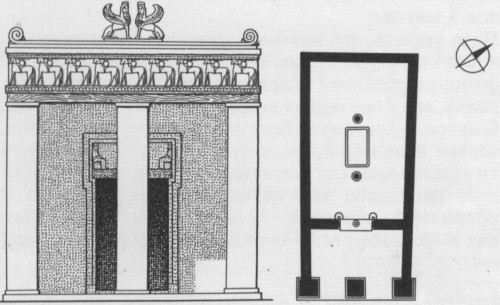
Храм в Принии. Конец VII в. до н. э. Реконструкция фасада и план
В течение VI в. до н. э. складывается классический тип дорического периптера. Особенно много храмов этого периода сохранилось в Великой Греции и Сицилии1. Таков воздвигнутый в первой четверти VI в. до н. э. в Сицилии храм Аполлона в Сиракузах. Это был, как и все архаические храмы, сильно вытянутый в длину прямоугольник с еще очень грузными по пропорциям колоннами (соотношение их ширины к высоте было меньше, чем 1:4, вместо типичных для поздней архаики и классики 1:6). Строитель храма, стремясь наглядно выявить несущее начало и уравновесить им давление горизонтальных объемов перекрытия, расставил колонны чрезвычайно часто. Пролет между колоннами, за исключением среднего пролета на главном фасаде, едва был равен ширине колонны, здесь еще применялись крайние по своей жесткой последовательности композиционные решения. Важно, однако, что архитектор стремился выявить центральную ось здания более расширенным интерколумнием (расстоянием между осями колонн) и значительно усилить пластическую напряженность общего зрительного впечатления.
Богатые греческие колонии в Великой Греции, привлекающие эмигрантов из собственно Греции, отличались интенсивностью и быстрым темпом строительной деятельности, не скованной уважением к древним местным святилищам и к стихийно сложившимся старым ансамблям. Это облегчало рождение планировки больших архитектурных ансамблей и ускоряло формирование классического типа периптерного храма. Правда, в самой стилевой трактовке этих периптеров наряду с чисто классическим решением проявляли себя и некоторые специфические черты, присущие зрелой архаике, а позже и классической культуре италийской Греции. Таковы некоторая тяжеловесность пропорций и тяга к грандиозным масштабам. В особенности это сказалось уже в период ранней классики в огромном храме Зевса в Агридженто.
Одним из крупнейших ансамблей зрелого архаического времени был ансамбль храмов в процветающем сицилийском полисе Селинунте. Древнейший из храмов Селинунта, так называемый храм «С», расположенный на акрополе, начали строить около 580 г. до н. э. Это
1 К Великой Греции относят иногда греческие полисы южной части Апеннинского полуострова, иногда включают в это понятие и греческие полисы Сицилии.
65
Фасад храма Артемиды на острове Корфу. Конец VII в. до н. э.
был вытянутый в пропорциях периптер с соотношением колонн 6:17 (подобно храму Аполлона в Сиракузах). Существенной особенностью храма «С», как, впрочем, и многих других сицилийских архаических храмов, являлся второй ряд колонн, помещенный за основным фасадом, что придавало репрезентативную пышность главному входу. Его приземистые колонны, однако, отличались все же относительно большей стройностью, чем колонны храма в Сиракузах. Правда, монолитные, вырубленные из целого куска камня колонны были еще лишены энтазиса, что связано с традициями более раннего периода. При отсутствии энтазиса (легкая криволинейность силуэта колонны, придающая ей ощущение живой упругости) с особой жесткостью и напряженной статикой обнажается столкновение давящего и несущего начал.
Среди архаических храмов Посейдонии, крупнейшего святилища южноиталийской Греции, представляет интерес храм Геры I (середина VI в. до н. э.)1, отличающийся несколько приземистой мощью пропорций (соотношение колонн 9:18), резко выраженным энтазисом и подчеркнуто упругим широким эхином. Стремление к прямолинейному выявлению контраста давящих и несущих усилий, суровый драматизм архаики здесь выражены с особой наглядностью. Гармоничнее, мягче эти моменты ощущаются в храме Афины2 в Пестуме, построенном в последнюю треть VI в. до н. э. В нем уже применяется характерное для классического периода дорической архитектуры соотношение колонн 6:13, то есть 1:2 плюс 1.
Важной особенностью Посейдонии, как, впрочем, и Селинунта, а позже и Агридженто, являлось создание специальной храмовой зоны, поражающего своим величием ансамбля храмов. Нечто подобное можно было наблюдать в самой архаической Греции не столько в полисах, сколько в святилищах, в частности в ансамбле Дельф.
Однако именно в Греции архаический дорический ордер в середине VI в. до н. э. достигает высшей стадии своего развития. Таков храм Аполлона в Коринфе, отличающийся гармоничностью своих пропорций: относительно более стройными, чем в раннюю архаику, колоннами, уравновешенным соотношением пропорций колоннады и антаблемента. Несколько архаический характер художественного решения проявляется в относительной тяжеловесности колонн. Неожиданностью в столь стилистически зрелом памятнике является отсутствие энтазиса в колоннах, что компенсируется, правда, большим количеством каннелюр (двадцать). Тем же стремлением к более гармонически уравновешенной системе пропорций, к большей стройности колонн, к менее расплющенному эхину отличался второй Гекатомпедон на афинском Акрополе, созданный около 520 г. до н. э.
Величавое благородство пропорций присуще храму Аполлона в Дельфах, сооруженному в 506 г. до н. э.
1 Так называемая Базилика — традиционное, но неправильное название, сейчас не применяемое.
2 Известен также как храм Деметры, или Цереры.
66
(в своем окончательном варианте). Некоторая вытянутость пропорций, стройность колонн (6:15), свободные пролеты интерколумния определили гармоническое равновесие между вертикальными и давящими усилиями, общее торжественное благородство пропорций храма. Поражает и выбор места — храм находится на выступающей из отвесных скал террасе, господствующей над расположенными ниже по склону горы остальными зданиями святилища. Героическая красота гармонии храма по сравнению с грозной дикостью гор, величавость открывающегося от храма вида — один из высших примеров той особой связи с миром, со средой, которая типична для классического античного зодчества.
Храмы Аполлона в Коринфе и в Дельфах созданы уже в ранний период расцвета классических форм дорического периптера. Характерно, что в храме Аполлона в Дельфах был применен принцип некоторого сгущения колонн к центру и введена легкая выпуклость линии стилобата, которая снимала бы возникшее у зрителя ощущение его придавленности более тяжелой центральной частью фронтона. Строгая соразмерность пропорций, пластическая выразительность форм, введение коррективов, компенсирующих оптические впечатления, — вот те типичные черты храмов времени архаики, которые дают нам основание считать их первыми произведениями классического расцвета дорического ордера.
Особым благородством пропорций отличается сооруженная на рубеже VI и V вв. до н. э. небольшая сокровищница афинян в Дельфах — изящный храмик «в антах», поражающий ясной чистотой своих компактных и кристаллически чистых архитектурных форм. Благородная простота объема небольшого мраморного храмика, контрастно выделяющегося на фоне мощной так называемой полигональной подпорной стены, над которой возвышался храм Аполлона, производила сильное впечатление по сравнению с изящной декоративностью многочисленных сокровищниц, выполненных в ионийском стиле.
Ансамбль Дельф являлся одним из первых в Греции архитектурных ансамблей, в своей планировке учитывающих и характер местности и маршрут процессий. Хотя ансамбль святилища складывался отчасти стихийно, в течение длительного времени, все же в известной мере характер местности, расположение основных сооружений, определение маршрута шествий потребовали и от зодчих приверженности к определенному архитектурно-планировочному решению. В ансамбле Дельф нашли свое художественное выражение присущее древним зодчим чувство связи архитектурного образа с окружающей средой, их представление об отношении отдельных сооружений к слагаемому из них целому. Об этом свидетельствуют расположение храмика афинян как раз перед поворотом дороги, контраст его объемов с полигональной стеной. Так, завершая цель движения процессии, храм Аполлона занимает господствующее положение. По сравнению с величавым амфитеатром скалистых гор, окружающих святилище, и сам храм Аполлона и как бы беспорядочно разбросанные сокровищницы представляются необычайно малыми. Но каждое из сооружений не прилеплено к подножию скалы, а объемно выделено и сохраняет, так сказать, индивидуальность своего существования. Вместе с тем эти маленькие кубические объемы подготавливают взгляд к восприятию пусть тоже малого по сравнению со скалистой грандиозной стеной, но величественно-грандиозного по отношению к ним храма Аполлона.
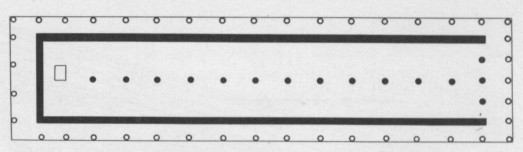
Храм Геры на острове Самос. Конец VIII—начало VII в. до н. э. План
По существу, композиция ансамбля сводится к системе террас-ярусов, связанных извилинами пандуса — священной дороги. Над всем кажущимся беспорядком разбросанных по святилищу сокровищниц господствует подчеркнутый тяжеловесной горизонталью полигональной стены величественный храм Аполлона, поднимающийся над мощным стереобатом-постаментом. Выше храма, у самого подножия отвесных скал, расположен театр. Чаша его концентрических ступеней, врубленных уже в IV в. до н. э. в толщу скалы, как бы в миниатюре воспроизводит в архитектурно-упорядоченном виде образ того естественного горного амфитеатра, на склонах которого расположен ансамбль святилища.
Свободное равновесие, несимметрическая гармония целого, как мы отмечали, отчасти складывались стихийно, но тот, кто посещал Дельфы, может подтвердить, что некоторые существенные моменты компоновки целого были проведены эстетически сознательно, что необходимость, диктуемая характером местности, была переосмыслена как свободное эстетическое решение. В некоторых отношениях ансамбль в Дельфах предварял те возможности, которые были осуществлены в ансамбле фидиевского Акрополя. Путь развития монументальной архитектуры ионийского ордера в эпоху архаики несколько менее ясен — слишком мало сохранилось памятников того времени, когда в Восточной Греции наступил первый расцвет ионийского ордера.
Огромные по тому времени города малоазийской Греции были тесно связаны с восточной культурой, и в какой-то мере характерное для Востока стремление к грандиозности масштабов оказало влияние на строительную деятельность малоазийских ионян. Большинство ионийских храмов VI в. до н. э. представляет собой очень большие по масштабу сооружения.
Таков был первоначальный храм Геры на острове Самос. На его месте в первой половине VI в. до н. э. воздвигли новый, чисто ионийский храм Геры. Но в скором времени он был сожжен персами. Во второй половине века при самосском тиране Поликрате был сооружен еще один грандиозный по размерам храм (54 X 111,5 м). Он был окружен двумя рядами колонн по боковым фасадам (так называемый двойной периптер, или диптер). На торцовых же фасадах храм был украшен тремя рядами колонн. Главный вход в целлу, расположенный на восточном торце храма, состоял из
67
глубокого пронаоса с пятью рядами парных колонн. Пышность капителей, напряженная игра света и тени в глубоких портиках главного входа придавали всему сооружению ощущение торжественной роскоши. Формы, конструкция этого храма были чисто греческими, но общий образный строй сооружения обличал стремление богатых восточных греческих городов к специфической пышности, несколько чрезмерной роскоши древнеазиатских культур.
Не менее знаменит был храм Артемиды в Эфесе, завершенный во второй половине VI в до н. э. Размеры этого также очень вытянутого в длину здания (соотношение колонн 8:20) лишь немного уступали храму Геры на острове Самос. Внутреннее помещение состояло из глубокого портика-пронаоса, разделенного на три нефа двумя рядами колонн и целлой, сообщающейся с небольшим четырехколонным опистодомом.
Нижние части колонн на фасадах были украшены скульптурными рельефами, что усиливало в ущерб конструктивной логике целого именно живописный эффект. Огромный храм был одним из первых воздвигнут целиком из мрамора. Ему характерно также стремление усилить впечатление пышности храма, увеличив игру светотени в колоннах. Отсюда необычайное число каннелюр (от 40 до 44) на каждой колонне. Наряду с созданием громадных сооружений мастера ионийского ордера разрабатывали, особенно в самой Греции, и тип небольших храмиков, отличающихся декоративностью и грациозностью своего облика. Такова изящная сокровищница книдян в Дельфах, построенная в середине VI в. до н. э. Это небольшой храмик «в антах», где колонны были заменены двумя поставленными на высокий постамент женскими фигурами — один из первых примеров в античном искусстве замены колонны человеческой фигурой. Большой интерес представляет и небольшая сокровищница сифнийцев в Дельфах. В ней колонны также заменены статуями кор. Кариатиды сокровищницы сифнийцев отличались особенной грацией поз, декоративной выразительностью пышных капителей. Зофор сокровищницы был украшен скульптурным рельефом, посвященным теме гигантомахии.
Небольшие ионийские сокровищницы поздней архаики в Дельфах вместе с дорической сокровищницей афинян соразмерностью своих пропорций, зрелостью стиля предвосхищают дух классической архитектуры V в. до н. э.
СКУЛЬПТУРА
В начальном периоде архаики процесс сложения нового изобразительного искусства шел медленно. Если гомеровский и гесиодовский эпосы продолжали быть живым наследием, если литература качественно по-новому переосмысляла и развивала те или другие стороны наследия эпоса, то в пластических искусствах не было накоплено подобного художественного опыта. В связи с этим менялась не только эстетическая и социальная функции искусства, менялась в отличие от литературы структура ее художественного языка. Поэтому если VII в. до н. э. уже знал интенсивный расцвет лирики, то скульптура и монументальная живопись нового стиля в то время находились, по существу, лишь в состоянии становления.
В VII в. до н. э. еще продолжали существовать очень древние скульптуры. Объектом поклонения служили сохранившиеся вплоть до V в. до н. э. каменные или деревянные идолы-ксоаны. Хотя удельный вес такого рода произведений искусства со временем резко падал, все же на первых порах их авторитет оказывал свое тормозящее воздействие на развитие новых художественных форм в скульптуре. В некоторых случаях формы древних ксоанов почти буквально повторялись. Примером влияния древних ксоанов на культовую пластику может служить группа памятников VII в. до н. э., в частности статуя «Артемиды Делосской». Все же в статуях типа Геры из Герайона на острове Самос уже проявляется интерес к передаче пластической расчлененности объемов, к выявлению пропорций человеческого тела.
Существенна для понимания развития искусства архаики сравнительно небольшая женская статуя критской работы — так называемая «Дама из Оксерра» (середина VII в. до н. э.). В ней строгая фронтальность построения несколько оживлена движением согнутой правой руки — ее кисть в ритуальном жесте прижата к сердцу. Особенно поражает в статуе упругая энергия монументальных по своим пропорциям объемов тела. Это ощущение могучей внутренней жизни пластических форм решительно господствует над восходящей к прошлой эпохе плоскостностью процарапанного геометрического узора, украшающего поверхность ее одежды. Таким образом наметилась новая ступень одновременного процесса очеловечивания и монументализации образа божества.
Следующую ступень в эволюции скульптуры представляет хранящаяся в афинском Национальном музее мраморная голова — сохранившаяся часть монументальной статуи куроса. Начиная с этого памятника можно датировать зарождение аттической школы, гармонически сочетающей пафос объемности и чувство богато дифференцированных орнаментальных ритмов. Моделировка черт лица носит еще достаточно условный характер, но тем отчетливее выступают новые эстетические качества — гармоническое равновесие форм, утонченное благородство ритма и ясная энергия пластики.
Возникает и большая монументальная скульптура нового типа. Менее рафинированная, чем изощренный в своем ритме курос из Афин, менее ясная в своем напряжении, чем «Дама из Оксерра», большая голова статуи Геры из Олимпии (около 600 г. до н. э.) — фрагмент гигантской статуи — с особой силой утверждает радостную торжественность духовного состояния человека-бога. Лицо Геры озарено так называемой архаической улыбкой. Она предельно условна и обобщенна. Но мастера архаики создают ее ради одухотворения человеческого образа. Постоянное состояние возвышенной радостной благости, гармонирующее с собранной энергией некой могучей жизненной силы, воплощенной в напряженной упругости тела, вот пафос архаической улыбки, делающей ее столь необходимой в образном строе античных архаических статуй. Обращаясь к созданию большой монументальной скульптуры, греческие мастера еще только формиро
68
вавшейся культуры полиса прибегали и к опыту монументального искусства восточных деспотий, насчитывающего много веков своего существования. С этим освоением, возможно, связана и тяга к гигантизму. Она особенно ясно сказалась в малоазийской Греции, в частности на Самосе, где воздвигались шести-двенадцатиметровые статуи. Однако в дальнейшем, за исключением редких больших храмовых культовых статуй, основным направлением развития стало создание соразмерных человеку скульптур. В работе над ними и складывался тип и стиль искусства греческого полиса. Этот процесс шел разными путями: число школ, направлений, местных вариантов, взаимных влияний было достаточно велико. Определенное значение имело и постепенное формирование дорического и ионийского направлений в искусстве пластики. Дорика характерна большим интересом к передаче объема и структуры тела, ионика отличается особым интересом к живописно-декоративным и одновременно более динамичным композициям. Однако в отличие от архитектуры многообразие направлений и школ в скульптуре не перекрывалось этими двумя понятиями. В целом развитие архаической скульптуры вело к созданию определенной концепции образа человека, к выработке средств передачи взаимодействия между протагонистами изображаемого события, к постановке проблемы связи скульптуры с архитектурой и к нахождению первых решений этой задачи. Особенно ясно утверждение нового понимания красоты статуарного образа человека выступает на примере архаических кор (или богинь) Государственных музеев Берлина. Все коры, созданные между 580—530 гг. до н. э., поражают выразительностью силуэта при предельной обобщенности формы. Сочетание архитектонической ясности и органической наполненности формы, приведшей в ордере к образованию энтазиса, передано с простой и откровенной ясностью. Поэтому при всей элементарности изображения здесь уже выражена одна из существенных особенностей ваяния архаики. Сдержанный жест прижатой к груди руки, характерный для большинства статуй, обозначает определенный ритуальный акт. Вместе с тем он снимает симметрическую неподвижность образа, придает статуе ощущение напряженности, не нарушающей, однако, общей фронтальности предстоящего перед зрителем изображения.
Статуи кор не тождественны друг другу. В рамках единства общих принципов сказываются и время создания и особенности данного типового решения школой или мастером. В условиях строгой общности основного мотива оттенок жеста, пластической моделировки формы приобретает существенное значение. Правда, в «Коре с куропаткой» мастер уделяет большее внимание орнаментальной выразительности складок, что и составляет специфическую прелесть этой статуи. Но ее объемы несколько вялы, а предельно обобщенные формы выдают руку мастера с менее развитым чувством красоты. В статуе «Богиня с зайцем» мастер строит образ фронтально, избегая сложных ракурсов, но ценит и чувствует красоту упругого весомого объема форм человеческого тела. Он также склонен строить образ более архитектонично. И ритмы складок более геометрически строги, чем в первой статуе. Более графичные, они по контрасту выявляют мощную колоннообразность объема тела. Сдержанная энергия движения ее правой, еле уловимо полусогнутой в локте руки противопоставлена выразительной стремительности ее левой руки, ладонь которой, подобно постаменту, несет у груди фигурку зайца. Уже в этих творениях второй трети VI в. до н. э. чувствуются особый дух архаического ваяния, его стремление к строгой конструктивности и к передаче самых общих состояний человека — величественной энергии, позже — мягкого лиризма. Оттенок такого музыкально-лирического решения образа в рамках предельной обобщенности и постоянности состояния воплощен в статуе коры («Орнита» с острова Самос). Она даже более фронтальна, чем первые две, так как скульптор отказался от мотива приложенной к груди руки — обе руки опущены вдоль тела. Более симметрично наброшен гиматий. Сопоставление весомого ритма кос, лежащих на груди, и легкого ритма складок и линий одежды исполнено необычайного очарования. Однако мастер все же чуть-чуть нарушает симметрию. Кисть правой руки придерживает пеплос, сжимая его. Сам жест, очень условно переданный мастером и исполненный изящества, имел для грека совершенно определенный смысл. Согласно обычаю девы в Ионии должны были тесно обвивать ткань одежды вокруг своих щиколоток. Поэтому изображенная здесь дева или богиня не могла бы навлечь на себя упрека Сафо: «Не умеет она платья обвить около щиколотки»1. Простой и естественно-жизненный, а не символически-ритуальный жест создает ту еле уловимую интонацию естественно лирической, нежной простоты, которая ощущается в иных песнях Сафо. Этому образу более приличествует обращение-призыв Сафо:
Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди
К нам в молочной-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобой2.
Правда, страстные строки Сафо несколько контрастируют с изящной сдержанностью статуи. Она скорее является не выражением чувств Сафо, а пластическим аналогом той живой, поэтически ясной Гонгилы, которую сама поэтесса далее сопоставляет с «кипророжденной» богиней.
Сравнение этих трех статуй показывает богатство оттенков всегда неповторимых и всеобщезначимых образных решений архаики. Их кажущееся единообразие — плод невнимания к тому образно-содержательному смыслу, который в греческом искусстве имеет неслучайный оттенок жизни формы, оттенок движения человеческого тела.
Кстати сказать, многообразие жестов, часто выражающих ложную патетику, оглушающий «грохот» ритмов, господствующих в современном искусстве капиталистического мира, делают людей менее чуткими зрительно к жизни оттенков формы, к ее богатству в подлинно образном искусстве.
1 Сафо. Фрагмент 32. — В сб.: «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева», с. 241.
2 Сафо. Фрагмент 29. — В сб.: «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева», с. 241.
69
Скульптуры эпохи архаики были раскрашены, греки не боялись цветовой жизни своих образов: то насыщенно-яркой торжественности, то более лирической, радостной праздничности. В большинстве случаев от раскраски остались лишь слабые следы. Представление о декоративной звучности раскраски, о ее органической связи с жизнью самой скульптурной моделировки тела дает величаво-радостная берлинская «Богиня с гранатом».
Параллельным путем с образом коры эволюционировал образ бога, героя, атлета, условно обозначаемый термином «курос», то есть юноша (раньше его часто называли Аполлоном). Образ обнаженного прекрасного юноши, как и образ одетой коры, служил разным сюжетным целям, но всегда воплощал красоту человека, его прекрасного тела. Нагота статуй юноши-мужа формально была связана с тем, что на состязаниях, включаемых в большие народные празднества, и в частности на всеэллинских Олимпийских играх, атлеты выступали обнаженными. Они обнажались и во время гимнастических занятий.
Нагота была синонимом типического героического состояния мужчины, его готовности к свершению подвига-усилия. Еще большее значение постепенно приобретал и собственно эстетически-этический момент. Идеал «прекрасной доблести и благолепия» — «калокагафии» раскрывался именно в соразмерной красоте, гармоничности человеческого тела.
Обращение греков к нагому телу вместе с тем ускоряло развитие чувства пропорционального отношения частей к целому, стимулировало изучение пропорций и внутренней архитектоники построения человеческого тела и нахождения путей их художественно осмысленной передачи в камне и бронзе. Естественно, процесс овладения этими задачами, так же, как задачей сочетания длительности, устойчивой постоянности образа с передачей его внутренней жизненности, способности к движению требовал времени и был достаточно длительным.
Так, в конце VII в. до н. э. курос с мыса Сунион передает в основных чертах и мускулистую силу ног-колонн, несущих «перекрытие» торса, и энергичный разворот плеч, и напряжение в мышцах, казалось бы, спокойно опущенных рук. Вместе с тем некоторая несгармонированность пропорций, жесткая фронтальность целого и схематичность моделировки головы выдают в этой статуе раннюю ступень формирования нового стиля. Иной характер носят более зрелые решения середины VI в. до н. э. например, исполненный ясной радостности, строго музыкальный в своей юной красоте курос с острова Мелос, а также курос из Птойона. Формально схема фигуры мало изменилась. Однако большая стройность ног, изящная певучесть силуэта, точная и простая элегантность найденных пропорций свидетельствуют о зрелости стиля. Своеобразное сочетание простоты и изящества решения достигнуто в статуе в полной мере, а вместе с тем в ней воплощено и нечто большее — ощущение радостно-героического господства образа человека над миром.
Если в этих куросах мастер уделяет внимание общей стройности пропорций, изяществу силуэта, то художники иного направления, исходя из тех же общих задач, при их осуществлении прибегают к несколько иному варианту решения. Ваятели архаики ощущают живое тело в какой-то мере подобным ордеру с его равновесием несущих и давящих масс. Первые выявляют себя преимущественно в усилии ног и бедер, вторые — в весомости объема грудной клетки. Этот момент мог даваться либо смягченно — курос с острова Мелос, либо с подчеркнутой определенностью. Так, мастер с острова Наксос в своем куросе выявляет могучую силу упругих бедер, тот «посыл», который они дают стройному торсу юноши и широкому развороту его плеч.
Этот мотив развивался иногда ионийцами или мастерами, следующими их стилю, впрочем, часто более склонными к изящной элегантности силуэта, чем к передаче тяжелой массивности объема тела («Аполлон Тенейский»). Но с особой последовательностью во второй половине VI в. до н. э. он разрабатывался мастерами дорического направления.
К середине VI в. до н. э. относятся и первые опыты овладения хиазмом, то есть легким крестообразным смещением бедер и плеч по отношению друг к другу. Несколько смягчая жесткую фронтальность, этот прием усиливал ощущение скрытой жизни, скрытой способности к движению в величаво спокойных архаических статуях.
К середине века относится и один из лучших образов искусства зрелой архаики — статуя всадника с афинского Акрополя (так называемый «Всадник Рампин»), Сохранились его голова, не полностью торс и фрагменты шеи и головы коня.
По позднейшему изображению всадника на небольшом рельефе с подножия мемориальной стелы (около 520 г. до н. э., Рим, музей Барракко) мы можем себе представить, как выглядела в целом статуя акропольского всадника. Напряженная ясность его архаической улыбки как бы вырастала из пластической моделировки движения и контуров фигуры в целом. Здесь архаическая улыбка как обобщенная передача некоего постоянного радостно-героического состояния духа человека достигает своего совершенства. В дальнейшем она начнет приобретать характер нарочитой манерной изящности, в своей условной всеобщности все более вступает в противоречие со стремлением художников к более конкретной передаче реальной жизни человеческого тела, все более конкретной передаче поступков героя.
Мотив медленно едущего всадника чрезвычайно важен тем, что он был одним из немногих мотивов, где архаический мастер статуарной пластики обращался к более свободной трактовке состояния движения, выходя за пределы схемы шагнувшего и остановившегося куроса. Вообще тема всадника, в которой дается соотношение фигуры коня и управляющего им человека, очень древняя тема. Ее можно было наблюдать еще на рельефе храма в Принии. Но там изображение маленьких фигурок всадников, сидящих на огромных длинноногих конях, носило формально атрибутивный характер. Эстетическая ценность рельефа состояла в общей метрической стилизованности форм, и его решение не претендовало на образное раскрытие соотношения всадника и коня. Лишь позже оно было с таким блеском раскрыто в чернофигурной вазописи и почти одновременно в акропольском всаднике.
70
Несколько массивные формы спокойно идущего коня оттеняют стройную энергию уверенно господствующего над ним всадника. Однако следует отметить, что пара всадник-конь — еще и не вполне группа. Все же это некое двойное существо, где есть и контраст сопоставления и слитность как бы едино движущегося целого. Недаром хорошего всадника иногда уподобляли кентавру. Группу как столкновение или сложное согласие двух протагонистов события отделенная от фронтона архаическая пластика почти не знала. Пребывание архаических скульптур в состоянии «героического» равновесия сил препятствовало передаче конкретного действия, свершения тех или иных поступков. До поры до времени это не мешало ни художникам, ни, видимо, их потребителям — гражданам полиса. Ведь в основном ваяние имело дело с изображением бога или героя. Такой образ занимал известное место в системе мифических представлений древних. Его основные свойства, главные события его деятельности были известны и ассоциативно влияли на оттенок его восприятия. Сам же образ героического бога или героя в своей универсальной ценности не вступал в противоречие с вызываемыми его созерцанием ассоциациями. Если и вводился момент некоего конкретного действия, то вначале это обычно было действие самое общее жизненное и вместе с тем культовое. Таков мотив человека, несущего на своих плечах жертвенного тельца. Сам мотив движения-действия скорее только обозначался, но зато героическая сила и свобода, с которыми был поднят груз, были исполнены торжествующей радостности и юношеской мужественности («Мосхофор» из Афин).
Особой проблемой архаики являлась проблема зарождения и эволюции групповой статуарной композиции. Сама постановка и решение этой задачи были связаны с известными трудностями, порожденными особенностями художественного сознания древних греков эпохи архаики.
Начало выхода из этих трудностей было положено, с одной стороны, в вазописи, где еще были живы традиции схематизированно-условных, но повествовательно-изобразительных вставок в орнаменты ваз позднегеометрического стиля. С другой стороны, проблема действия и взаимодействия персонажей решалась в тот период или в рельефах, более близких к традициям повествовательных циклов, разрабатываемых в вазописи, отчасти в живописи, или в полурельефах-полускульптурах, украшавших фронтоны храмов. Там задача изображения тех или иных, связанных с культом событий властно требовала их пластического воплощения. Это диктовалось как чисто композиционными требованиями большого поля фронтона, так и культовой необходимостью ввести зрителя в круг действий, связанных с божеством или с его покровительством подвигам мифических героев. В круглой скульптуре редкие случаи изображения парных групп все же были в основном посвящены прекрасно разработанному идеалу мужественной силы и красоты человека, проблема же взаимосвязи двух персонажей, по существу, долго не ставилась.
Таковы относящиеся еще к началу VI в. до н. э. парные статуи Клеобиса и Битона работы Полимеда Аргосского, посвященные не богам, а мифическим героям. Они были одним из первых монументальных воплощений героического идеала в дорическом искусстве. Художник с суровой прямолинейностью передает тяжеловесные объемы тела, четко выявляет архитектонику его основных членений. Полимеду была глубоко чужда изысканная утонченность ионийского искусства. По сравнению с искусством VII в. до н. э. группа Клеобиса и Битона с точки зрения героического обобщения образа представляла значительный шаг вперед. Однако парная композиция была сведена к простому соседствованию двух тождественных фигур. Передача сюжетного действия и постепенного осознания особых художественных задач, стоящих перед скульптурой, включенной в синтез пространственных искусств, относится к рубежу VII и VI вв. до н. э. и началась, естественно, с многофигурных сюжетных фронтонных или фризовых композиций. Так, в храме Артемиды на острове Корфу в центре композиции западного фронтона была помещена тяжеловесно-грузная по пропорциям Медуза Горгона. Во фронтоне явственно выражен переходный характер становления монументальной многофигурной композиции. С обеих сторон Медуза фланкирована фигурами лежащих львов. Такая, пусть еще декоративная и примитивная форма уравновешенной композиции представляет все же первый шаг в сложении монументальных, связанных с архитектурой форм искусства.
Однако достигнутая симметрия композиции тут же нарушается. Во-первых, необходимость напомнить о сюжетном смысле изображения, имеющем культовое значение, заставляет мастера ввести маленькое изображение ее сына Хрисаора, с трудом втиснутое в промежуток между Горгоной и львом справа. Никакое реальное взаимодействие столь разномасштабных персонажей невозможно. Во-вторых, помещенная в центре Горгона была изображена в стремительном движении слева направо. Общая симметрия целого этим нарушается (правда, само движение передано условнодекоративно в схеме коленопреклоненного бега). Скульптор стремился подчеркнуть центрированность фигуры и тем, что ее пояс, образованный из двух сплетшихся змей, создает симметрический орнаментальный мотив, что дополнительно акцентирует общую ось композиции.
Характерно, что попытка передать движение и дать хоть какое-нибудь представление о сюжете ведет на этой ранней стадии зарождения монументального искусства к нарушению композиционного равновесия, достигаемого в основном еще чисто орнаментальными, декоративными приемами. Изображение Медузы Горгоны здесь имеет несколько иное значение, чем в ставшей ортодоксальной трактовке мифа о Персее, убивающем зловещую Медузу. Здесь она выполняет некую магическую функцию, являясь силой, охраняющей храм. Эта роль Горгоны-охранительницы, отпугивающей от священного места враждебные людям силы, определяет относительно широкое обращение в VII и первой половине VI в. до н. э. к мотиву фигуры летящей Горгоны. Таков и терракотовый рельеф с фронтона архаического храма, изображающий ярко раскрашенную Горгону (Сиракузы, Национальный музей), который характеризуется тяжеловесной орнаментальностью.
71
Следующий шаг в эволюции групповой композиции намечен на том же фронтоне храма Артемиды. В правом углу вне связи с центральным сюжетом изображен Зевс, поражающий гиганта. Мотив борьбы двух фигур здесь передан более реально. Мастер пытается также согласовать движения фигур с форматом треугольного покатого поля фронтона. Он делает это еще весьма примитивно. В частности, движение фигур направлено от центра к краям фронтона. Идея о завершенном событии, исчерпывающем себя в пределах фронтона, о соответствующей этому центростремительной композиции еще не родилась.
Тенденции, намеченные во фронтоне храма Артемиды на острове Корфу, получают свое продолжение в созданной около 570 г. до н. э. композиции на фронтоне первого Гекатомпедона в Афинах, посвященной борьбе Геракла с тритоном. Пластически наиболее выразительной является расположенная в левой части фронтона фигура Геракла, борющегося со змееобразным тритоном. Исполненное напряженной энергии тело Геракла выразительно противопоставлено вязко-текучему телу тритона. Это уже реальное изображение борьбы, действия, движения. Сам контраст тела Геракла и тритона представляется одним из первых проявлений интереса к выразительному противопоставлению образных и пластических контрастных мотивов, которое приведет к особо плодотворным результатам в искусстве поздней архаики и классики. Мастер также осознает необходимость симметрически уравновешенного расположения фигур по отношению друг к другу. Внутри треугольника фронтона фигуре Геракла, борющегося с тритоном, соответствует в правой части изображение трехголового чудовища со змеиным телом — Тритопатора, причем движение обеих групп направлено от угла фронтона к его центру, что создает уравновешенную симметрическую композицию, точно вписанную в треугольную форму фронтона. Сохранившаяся яркая раскраска голов и тела Тритопатора поражает своей декоративностью. В какой-то мере усиливая плоскостную орнаментальность композиции, она несколько мешает пластически полноценному восприятию скульптурных образов, украшающих фронтон. Условная раскраска (синяя борода, шафрановое лицо) не способствует усилению впечатления общей целостности события. Как мы видим, нахождение оптимальных взаимосвязей скульптурного образа с формой и с образным строем храма было достаточно длительным процессом. Его первые и действительно органические решения относятся уже к зрелой архаике.
В целом проблема соединения скульптуры с архитектурой в VI в. до н. э. решалась созданием композиций, непосредственно связанных с конструкцией здания (размещение рельефов на тимпанах фронтонов или в прямоугольниках метоп). Этот путь привел в конце архаики к плодотворным и весьма принципиальным решениям. Типологически промежуточное звено между собственно скульптурными многофигурными рельефами и изображениями на вазах представлено почти круглым рельефным фризом бронзового кратера из Викса (530—520 гг. до н. э.). На нем изображено шествие воинов — прекрасный пример своеобразного микросинтеза в художественных ремеслах.
Реже разрабатывалась не менее сложная проблема введения круглой статуи в архитектурный ансамбль или площадь, примыкающую к храму. При этом возникали вопросы масштабного соотношения статуи и храма, их пространственного взаиморасположения, стилевого единства.
К ранним вариантам такого решения, приходящимся еще на последнюю четверть VII в. до н. э., можно отнести так называемую Львиную террасу на острове Делос. Ряд грозных в своей скрытой жизненной силе львов, почти тождественных друг другу, расставленных на равных интервалах, создавали метрическую композицию. В своей основе она мало отличалась от сложных восточных решений. Большой интерес также представляли часто выносимые на высокий постамент-колонну изображения сфинксов. Таков сфинкс наксосцев в Дельфах (около 575 г. до н. э.), венчавший десятиметровую колонну. Эти статуи образовывали одну из организующих среду вертикальных доминант и, видимо, выступали в определенной связи с соответствующими архитектурными сооружениями. Поучительна и статуя Ники с острова Делос мастера Архерма. Она дошла до нас в сильно поврежденном виде, однако сохранившиеся обломки крыльев и, кроме того, близкие по стилю небольшие бронзовые статуэтки летящей Ники дают нам возможность реконструировать композицию мастера Архерма. Более изящный и гармоничный по пропорциям, чем у бегущей Горгоны с храма Артемиды на острове Корфу, силуэт Ники четко вырисовывался на фоне плоскостно распластанных крыльев. Закругленно изогнутые, они по ритму контура напоминали капитель ионийской колонны. Ярко раскрашенная, почти узорочная статуя либо стояла на площади на высокой колонне с ионийской капителью, либо венчала фронтон храма. Однако именно декоративный характер композиционного решения, точно рассчитанного только на фронтально плоскостное восприятие и малые размеры фигуры (она несколько меньше человеческого роста), не давали возможности полностью раскрыть и утвердить в ансамбле телесную и духовную ценность скульптурного образа человека. Эта задача была убедительно решена в V в. до н. э. В частности, можно сослаться на «Нику» Пеония.
Особое место в развитии храмовых скульптурных композиций занимают хорошо сохранившиеся памятники архаического искусства италийской Греции. Они образуют неразрывное целое с искусством собственно Греции и вместе с тем обладают рядом специфических черт. В них было найдено одно из первых в своем роде органичных решений синтеза скульптуры и архитектуры. К характерным памятникам такого рода относится метопа «Похищение Европы» из так называемого храмика «Малых метоп» в Селинунте (около 550 г. до н. э.). Это типичная работа местного мастера, сочетающая некоторую массивность пропорций с повышенным чувством ритмической выразительности силуэта. Изящный графизм линий плоского, как бы резного рельефа, игра драпировок, как полагают, указывают на воздействие ионийского искусства. Метопу отличает уже зрелое мастерство вписывания композиции группы в квадратное поле, отведенное архитектурной конструкцией. Несколько выходящее
72
за пределы поля метопы колено полусогнутой передней ноги быка-Зевса и одного из его рогов свидетельствуют не о композиционной неопытности художника, а представляют скорее всего сознательный прием мастера. Характерно, что этот еле заметный вывод фигуры за пределы поля метопы встречается и в очень изысканных, зрелых по стилю архаических метопах большого храма в святилище Геры в устье реки Селы (Посейдонии).
В метопе «Похищение Европы» мастер стремится ассоциативно передать место-среду, где развертывается действие. Море, через которое плывет со своей драгоценной ношей бык-Зевс, обозначено мягкими волнообразными силуэтами двух дельфинов, помещенных у его ног. Аналогичные способы косвенного изображения моря мы встречаем и на современных метопам вазах чернофигурного стиля («Дионис в ладье») и на древних критских росписях. Можно было бы усматривать в этом пример взаимосвязи вазописи и монументального искусства или говорить о прямом воздействии эгейской традиции. Следует, однако, иметь в виду, что для той стадии художественного сознания, где не ставилась проблема передачи окружающей человека среды в ее живой конкретности, обозначение места действия через соответствующее предметное изображение, вызывающее необходимые ассоциации, является приемом не обязательно заимствованным, а органически вырастающим из всей системы образного сознания эпохи.
Все же и в метопе вследствие специфически строгих рамок архитектурной композиции задача собственно образной ассоциативной передачи морской стихии, бега волн, по существу, почти не ставится мастером. Скорее с ритмической жизнью волн или ряби, разбегающейся вокруг плывущего быка, перекликается волнистая рябь его гривы. Гораздо живее эта задача решалась критянами в полной свободно-живописной подвижности (соответствующей праздничной живописной динамике самой архитектуры) росписи пифоса с изображением моря с рыбами из Старого дворца в Фесте. В пределах архаической Греции эта проблема блистательно разрешена в несколько более поздней росписи Эксекия «Дионис в ладье», где свободно разбросанные по кругу дна килика дельфины действительно не только атрибутивно указывают на среду, но и передают ощущение всплесков морских волн.
Стремление утвердить пластическую ценность скульптурного образа и его взаимодействия с зодчеством определяет характер рельефов метоп храма «С» в Селинунте (540—530 гг. до н. э.). Метопы как бы сдавлены между массивными триглифами и кажутся сравнительно небольшими по отношению к тяжеловесной мощи архаического антаблемента. Тем более было необходимо утвердить их место в общей композиции ансамбля, подчеркивая пластическую объемность фигур. Поэтому мастер метоп прибегает к горельефу, почти переходящему в круглую скульптуру.
В композиции метопы с Гераклом, несущим плененных кекропов, фигуры обоих кекропов трактованы зеркально симметрично и условно, однако сама грузно-мощная по пропорциям фигура Геракла дана в достаточно выразительном и вместе с тем жизненно уловленном движении.
Если композицию с Гераклом отличает четко центрированная уравновешенная композиция, то в изображении Персея, убивающего Медузу, большая сложность сюжета мешает художнику добиться нужных результатов. Вместе с тем характерно, что мастер не ставит перед собой также задачу воплотить реальное взаимодействие и борьбу фигур Персея и Горгоны. Все фигуры повернуты лицом к зрителю и связаны друг с другом атрибутивной передачей сюжетной ситуации и общей ритмизованной композиционной схемой. Однако смысл события не только ясно читается зрителем. Суровая энергия ритмов, почти грубая мощь объемов передают жестокую драматичность мифа, решительность и героичность образа Персея.
Очень своеобразным методом эта задача синтеза скульптуры и архитектуры решалась в храмах Посейдонии. Среди скульптурных работ, украшавших архитектурные ансамбли Посейдонии, наибольший интерес представляют метопы сокровищницы (вторая четверть VI в. до н. э.) и метопы большого храма Геры, созданные в конце VI в. до н.э.1. Ряд метоп сокровищницы, как, например, «Борьба Геракла с Антеем», остался незаконченным. Возможно, разгром того города, который воздвиг в святилище Геры эту сокровищницу2, вызвал приостановку работ. Тем не менее незавершенные метопы были раскрашены и поставлены на место. Конечно, это было вынужденное решение, которое дает нам теперь возможность представить последовательность этапов работы архаического скульптора над рельефом.
Мастер руководствовался задачей вписать изображения в две поверхности: заднюю плоскость стены и параллельную ей—воображаемую переднюю плоскость. В этих пределах из каменной доски и были вырезаны контуры фигур. Очевидно, идя от передней к задней плоскости, скульптор в дальнейшем должен был округлять формы, добиваясь большей пластической моделировки сплющенных между двумя плоскостями объемов. В этих приемах обработки одновременно проявлялись разные аспекты работы скульптора. Во-первых, как добрый ремесленник-камнедел он исходил из наиболее экономного и удобного метода работы в камне. Во-вторых, и это важнее, он видел свой образ как бы вписанным в некое более общее целое — стену. Сначала инстинктивный, затем сознательный дух синтеза заставлял его развертывать изображение вдоль поверхностей стен храма или саркофага. И наконец, беспокойные выступы, сложные и запутанные взаимодействия ракурсов с окружающим пространством были нежелательны для устойчивой замкнутости и простоты обозримости целого, к которым все более стремилось античное художественное сознание. Примером решения поставленных задач может служить метопа «Геракл, несущий кекропов». Эта композиция отличается от селинунтской, несмотря на симметричность, большей естественностью движения. Грубоватая жизненность и достоверность в передаче сюжета, присущие этой серии метоп, особенно
1 Эти храмы были расположены несколько в стороне от собственно Посейдонии — в устье реки Селы (в древности — реки Силарис).
2 В святилище Геры воздвигали свои сооружения несколько италийских полисов.
73
наглядно проявляются в более законченной метопе «Геракл, приносящий Цербера Эврисфею». Тяжеловесная приземистость пропорций, угловатая динамика движений, стремление к наивной конкретизации ситуаций, своеобразный юмор определяют художественное своеобразие метопы.
Неожиданно выглядит найденная мастером композиционная взаимосвязь во всей серии метоп. Фигуры на большинстве метоп движутся слева направо, что создает ощущение единого ритма, объединяющего их в некоторое художественное целое, несмотря на разделяющие их вертикали триглифов. Иногда две метопы складываются в единую сюжетную композицию. Видимо, пробудившееся стремление к конкретному раскрытию сюжета здесь довлеет над задачей строгого соподчинения композиции рамкам квадрата метопы. Таковы две метопы: Артемида и Аполлон, мечущие стрелы в гиганта Титоса, похитившего их мать Латону. На левом рельефе Артемида и Аполлон стреляют из луков, на правом — Титос убегает с Латоной на руках, оглядываясь на преследователей. Композиция приобретает замкнутую уравновешенность только при сопоставлении обеих метоп, в отдельности они воспринимаются скорее как фрагменты, а не как законченное целое.
Памятник своеобразен и тем, что в нем почти карикатурная грубоватость пропорций, отсутствие заботы о передаче гармонической красоты человеческого тела сочетаются с развитым интересом к изображению взаимодействия участников определенного события, переданного достаточно убедительно. Очень возможно, что работы были выполнены местными италийскими мастерами, а не выходцами из Эллады. В дальнейшем, однако, этот прорыв к более непосредственно грубоватой передаче события уравновесится чувством более высокой гармонии целого. Эти метопы интересны и как характерное локальное явление в культуре архаики и как пример сложности движения к зрелым стилевым решениям следующего этапа в эволюции италийского архаического искусства. Метопы большого храма в святилище Геры (конец VI в. до н. э.), изображающие бегущих нереид, — пример зрелого этапа архаики. Возможно, что дошедшие до нас метопы составляли часть большого сюжетного цикла, посвященного борьбе Геракла с морским старцем Нереем. Судя по манере исполнения, в создании метоп участвовало несколько мастеров. Скульптуры метоп своеобразно сочетают черты дорической и ионийской школ: от Ионии — интерес к движению, к сложно разработанному силуэту, к многообразию и богатству драпировок, причесок, а от дорики — великолепное чувство пластической объемности формы. Вместе с тем при всей изысканной выразительности композиции, живости движений и эти скульптуры отличает, видимо, характерная для мастеров италийской Греции некоторая массивность пропорций тел. Очень интересен также принятый скульпторами метод вписывания фигур в поле метопы. Во всех метопах головы нереид выступают из квадрата метопы. Скульптор превращает плоскость балки, находящейся над метопой, как бы в некий фон, на котором с особой энергией и выразительностью пластически выделяются головы. С большим тактом мастер вводит элемент общности, но не буквальной повторности жестов — левые руки нереид стремительно полупротянуты вперед. При этом порывистый жест руки попеременно то укладывается в поле метопы, то выходит за ее пределы, создавая проходящее через все метопы своеобразное, как бы пульсирующее движение. Выявление разных оттенков общего пластического мотива снимает ощущение метрической, по существу, статической аналогичности фигур. В таких решениях живет дух оживленной праздничности, знаменуя вступление архаической монументально -декоративной скульптуры в стадию своей стилевой зрелости.
В более скрытой и менее прямолинейной форме, чем в метопах сокровищницы, отдельные плиты метоп большого храма трактуются и как законченное в себе целое и как объединенная общим направлением движения целостная композиция группы метоп. В какой-то мере в замкнутую расчлененность дорических метопных композиций вносится момент сплошного потока движения, перекликающийся с ионийским фризом — зофором. Думается, что это не случайно.
Если стремление к созданию панэллинского искусства, основанного на подобном синоикизму1 слиянию дорических и ионийских традиций, проявлялось в VI в. до н. э. в аттической школе и было с наибольшей полнотой осуществлено ею в V в. до н. э., то элементы поисков таких объединяющих художественных решений ощущались уже в эпоху зрелой архаики в искусстве Великой Греции. Видимо, постановка такой задачи обусловливалась не только специфическими особенностями развития Аттики (эти особенности, безусловно, способствовали наиболее полному решению задачи именно в Афинах), но в какой-то мере выражала общую тенденцию художественной эволюции культуры Греции в целом.
В собственно Греции со второй половины VI в. до н. э. в монументальных скульптурных рельефах идет интенсивный процесс овладения передачей общности действия участников большой многофигурной композиции. Особенно совершенно она решалась во фронтоне архаического храма Афины в Афинах и фризе сокровищницы сифнийцев, воздвигнутой в Дельфах около 525 г. до н. э. Рельеф, посвященный гигантомахии, представляет собой одну из абсолютных вершин в искусстве зрелой архаики. Вместе с тем в нем закладываются те принципы создания многофигурной композиции и связи скульптурного образа с архитектурной средой, которые позднее переосмыслялись в монументальной пластике древними мастерами ранней и зрелой классики.
Поражает мастерство, с которым создатели фриза, сопоставляя энергию пластики объемов с декоративной трактовкой драпировок и причесок, достигают точно рассчитанного гармонического контраста. Важной чертой этих рельефов является также сочетание лапидарно выраженной жизненной энергии движений и великолепной ясности композиционного построения. Таков проходящий через весь фриз мотив круглых
1 Синоикизмом называется объединение нескольких поселений или городов в один общий полис.
74
щитов, изменчиво повторяющийся жест поднятых для удара рук, вносящих в кажущийся хаос бурной борьбы своеобразный строгий и суровый ритм. Битва здесь понята как некая грозная целостность.
Казалось бы, что связь композиции гигантомахии с архаическим искусством ощущается только в условной декоративности деталей причесок и драпировок, некоторой жесткой напряженности в передаче движения. Однако на самом деле неповторимое обаяние архаики проявляется и в мощном чувстве красоты ритмически контрастных или повторных движений, наконец, в орнаментальной выразительности целого, о которой всегда настойчиво заботится мастер архаики. Конечно, в отличие от некоторых произведений ранней архаики композиция гигантомахии не носит чисто декоративного характера, она полна драматической выразительности, которая в своеобразном сочетании с почти брутальной энергией движений и жестов способствует созданию особого ощущения космического пафоса борьбы и пронизывающего его стремительного и почти жесткого ритмического порядка. Возвращаясь к статуарным образам архаики, следует еще раз подчеркнуть ту особенность, которая резко отделяет их от искусства классики. При всей огромной внутренней жизненности образа автор архаической статуи как бы опасается вывести ее из состояния устойчивого пребывания, нарушить тот уравновешенный и героически просветленный модус, в котором она находится. Отчасти это связано и с тематическим назначением статуй, но в большей мере здесь ощущается господство этических и эстетических представлений времени. Статуя, изображающая героя или божество, как бы противостоит и вместе с тем контрастно гармонирует с бурной, трагически напряженной жизнью на рельефах фронтонов, фризов и метоп.
Лишь в сфере малой, «негероической» пластики заметны иные решения. Но и мелкая пластика пронизана присущим искусству полиса интересом к общим, типичным для человека свойствам, а не индивидуально-личным особенностям отдельного человека. Поэтому в ней значительное место занимают фигурки, в той или иной мере имитирующие стиль большой пластики. При этом интерес к живой динамике движения человеческого тела выражен в ряде малых статуэток с необычайной силой. Так, например, маленькая бронзовая статуэтка «Минотавр» уже в начале VII в. до н. э. необычайно живо и непосредственно передает характерное движение. Статуэтка силена (вторая половина VI в. до н. э.), стоящего на четвереньках с задранной вверх ногой и протянутой вперед рукой, поражает и жизненной точностью в передаче весьма сложного мотива движения, и своим веселым юмором, и образнообобщенной антигармоничностью.
Однако преодоление бытовой жанровости мотива движения в статуэтках и одновременный переход к изображению значительного, исполненного героического духа реального действия в больших статуях, то есть своеобразный синтез этих двух линий в эволюции архаической статуарной пластики (так же, как и создание подлинных групповых композиций в круглой скульптуре) были, по сути дела, осуществлены лишь на следующем этапе эволюции греческой скульптуры — в искусстве классики.
В течение последнего двадцатилетия VI в. до н. э. возникает ряд явлений в искусстве, носящий явно переходный характер. В отличие от памятников, разрабатывающих решения и методы, характерные для зрелой архаики, в них то явственно, то более скрыто ощущается зарождение иного понимания образа, подготавливающего появление искусства ранней классики. Уже группа «Борьба Афины с гигантом» (около 520 г. до н. э.) с восточного фронтона второго Гекатомпедона в Афинах поражает реалистически совершенной передачей пластики тела, драматической энергией движения Афины, повергающей гиганта. Мастер стремится создать живую, исполненную конкретности действия композицию. Вместе с тем, может быть, впервые спокойная архаическая улыбка Афины вступает в контраст с драматической конкретностью мотива жестокой борьбы.
В некоторых случаях лишь условно, для удобства изложения можно отнести тот или другой памятник к концу этого переходного периода или к самому началу ранней классики. Некоторая зыбкость границ между концом архаики и началом классики не должна удивлять. При всей глубокой разности типов искусства архаического и классического, они представляют собой, как уже отмечалось, две качественно различимые ступени в эволюции полисной стадии развития античной культуры. Таков, к примеру, западный фронтон храма Афины Афайи на острове Эгина, созданный около 500 г. до н. э. В отличие от фигур восточного фронтона этого же храма (более бесспорно связанных с пластическим языком ранней классики) они с равным успехом могли бы фигурировать и в данном разделе вместе с уже упомянутыми нами памятниками. Лишь задачи сравнительного анализа развития принципов фронтонной композиции V в. до н. э. делают более удобным их рассмотрение в разделе, посвященном ранней классике.
Наиболее гармонично художественные качества этого переходного периода осуществляются в аттической школе. Ионийские мастера последней четверти VI в. до н. э. создают также ряд изысканных в своей утонченной декоративности произведений. Однако по сравнению с творениями более раннего периода, например «Богиней с зайцем», увлечение тонкой дифференциацией линейных ритмов порождает некоторую дробность форм. Такие произведения, как кора хиосской школы (около 520 г. до н. э.; Афины, Музей Акрополя), подкупают грациозным очарованием, исполненным почти кокетливой женственности образа, праздничностью расцветок. Однако это достигнуто ценой частичной утраты возвышенной поэтичности и пластической выразительности самих форм человеческого тела, ясной одухотворенности, которые отличают произведения аттической школы на завершающем этапе эволюции архаики. Особенно четко различие позднеионийской и аттической школ выступает при сравнении хиосской коры с созданной на грани VI и V вв. до н. э. светло-радостной по образу и простой по форме корой (№ 674) с афинского Акрополя. Стремление воплотить в ясно расчлененной, исполненной пластического напряжения человеческой фигуре поэтическую красоту облика героя находит свое завершение в конце VI в. до н. э. в ряде мемориальных
75
скульптур. Такова замечательная надгробная статуя Кройса из Анависа (после 520 г. до н. э.). Мужественно прекрасный юноша изображен в позе торжественного покоя. Его взгляд обращен вдаль, на устах застыла улыбка. Он, казалось бы, недвижим, и вместе с тем чуть выдвинутая вперед левая нога, полусогнутые в локтях руки, сдержанное напряжение сжатых в кулак кистей, еле уловимый наклон головы, живой трепет света и теней, скользящих по сияющему паросскому мрамору, из которого изваяно его четко моделированное тело, создают ту атмосферу внутренней жизненной силы, которая снимает ощущение неподвижной застылости и мертвой симметрии. Изгиб его улыбающихся губ соподчинен упруго напряженным ритмам крепко моделированных мышц тела. Ясное сияние мрамора нагого тела оттенено розово-алой окраской спадающих на плечи волос.
Это надгробие воплощает физическое и духовное совершенство человека. Статуя представляет суровый образ прекрасного героя, каким должен и может быть человек. И вместе с тем в нем есть нечто новое. Правда, элемент элегической отчужденности и светлой грусти еще почти не выражен пластически, однако слова, высеченные на постаменте, уже явственно вводят ноту лирического сочувствия и акцентируют мемориальное назначение памятника: «Остановись, прохожий, и проникнись состраданием! Вот могила, где покоится юный Кройс, которого стремительный Арес поверг, когда он сражался в первом ряду». В «Кройсе» как бы завершаются и великие эстетические достижения искусства зрелой архаики и одновременно предвосхищаются принципы искусства классики. Представление о заключительном этапе развития статуарной групповой композиции переходного времени дает фрагмент скульптурной группы «Тесей и Антиопа» с западного фронтона храма Аполлона в Эретриина острове Эвбея, выполненной около 510 г. до н.э. аттическим мастером. Весьма жизненно изображая Тесея, несущего прекрасную деву, мастер ограничивает, однако, группу монолитной колоннообразной композицией. Его волнует передача не динамики движения, а состояния героической силы и поэтической возвышенности образа. Скульптор достигает это в пластике великолепно моделированными объемами и своеобразным контрастом величавой широты упругих ритмов форм тела Тесея, полных пружинистой напряженности тугих завитков его прически и смягченных ритмов нежного тела Антиопы, ее прически. Это сопоставление разных ритмических состояний является не только средством контрастного обогащения пластики композиции — энергичный поворот головы Тесея сопоставлен с мягким наклоном головы Антиопы. Оно связано и со скупо намеченной поэтической дифференциацией образного состояния двух героев: сдержанной энергии Тесея соответствует задумчивая элегичность девы.
Здесь особенно ясно выступает своеобразие музыкальности форм и ритмов конца архаики. Это не просто плод ритмической упорядоченности образа, а передача ритмико-музыкальными средствами его духовного состояния. Подобное пластическое образное решение в чем-то аналогично образной содержательности лирики VII—VI вв. до н. э.
Особое место в искусстве поздней архаики занимают рельефы на надгробных стелах. В них зарождаются первые опыты передачи определенного духовного настроения — состояния, приличествующего теме изображения. Для таких поисков типична аттическая стела с бегущим воином (530—520 гг. до н. э.). Формально силуэт фигуры восходит к традиционной схеме коленопреклоненного бега. На самом же деле схема приобретает совершенно иное образное значение, она способствует созданию силуэта фигуры, органически вписанной в поле стелы, завершенное ионийской капителью. Кроме того, принятое название «Бегущий воин» неточно. По всей видимости, мастер изображает воина, пораженного в момент стремительного движения смертельным ударом. Поэтому так выразительно сопоставление напряженной энергии бега, переходящего в падение на одно колено, и склоняющейся долу прекрасной головы нагого гоплита. Жест схватившегося руками за грудь юноши особенно впечатляющ. Сложный мотив движения и переломного состояния в жизни тела передан с исключительной музыкальной выразительностью и характерной для поздней архаики ассоциативно-образной силой. Не отвлеченная декоративная схема, а обобщенно поэтическое воплощение некоего момента в жизни тела, в жизни человека, момента перехода от стремительной жизни к смерти выражено в его самом универсальном значении.
Особый вариант в искусстве конца архаики представляют небольшие рельефные композиции, размещенные на постаментах мемориальных скульптур, созданных в последней четверти VI в. до н. э. в Аттике. Одна из них изображает игры эфебов. Ее отличает изящная гибкость движений фигур, образующих полную динамики уравновешенную композицию. Однако зрелость художественного этапа сказывается в том, что отдельные фигуры складываются в единую, передающую ритм легкостремительного движения композицию. Это как бы постепенное проигрывание в разных ракурсах развернутого во времени единого мотива движения-танца.
На другом рельефе изображена пара борцов. В строго уравновешенной и вместе с тем уже свободной от жесткой симметрии композиции выразительно противопоставлено упругое напряжение тел борцов и более спокойные движения фланкирующих их фигур. Сам мотив композиции дает возможность при сравнении с чернофигурными и ранними краснофигурными вазами конца VI в. до н. э. оценить то единство художественного стиля, ту общность видения красоты человека, которые отличают искусство периода поздней архаики.
Путь, пройденный за полвека искусством зрелой архаики, выявляется особенно ясно при сравнении так называемой «Головы дискофора» — фрагмента аттической мраморной стелы середины VI в. до н. э. с надгробной стелой последней четверти VI в. до н. э., посвященной теме прощания. Профильная стилизованная голова дискофора вписана в круг диска. Удивительно остро сопоставлена четкость круга диска с изящной выразительностью контура головы дискофора. Как всякое произведение зрелой архаики, его отличают огромная внутренняя жизненная сила,
76
ясно-радостная ритмическая энергия, наполненность силуэта. Однако диск введен в композицию как чисто орнаментальный мотив, имеющий, правда, и свое ассоциативно-образное значение.
Во фрагменте более поздней афинской стелы мастер стремился передать то состояние духа, которое конкретно связано с самой темой надгробной композиции, посвященной памяти умершего. Стела изображает прощание юноши с мальчиком. Хотя обе головы еще наделены условной архаической улыбкой, но рука юноши ласковым прощальным жестом охватывает голову отрока. Этим мастер уже отходит от отвлеченного изображения героя, переходя к более живой передаче действия, воплощающего глубокую поэтическую мысль. Здесь зарождается та тема диалога-прощания, которая в дальнейшем будет наполняться то элегическим чувством, то просветленной печалью, то сдержанным трагизмом переживания.
В этой стеле содержатся также и будущие свершения ранней, высокой и поздней классики. Она является и очень далеким предшественником мемориальной скульптуры русского классицизма. Вместе с тем эти творения мастеров поздней архаики представляют и самодовлеющую ценность со своей особой поэтикой, не сводимой только к предвосхищению последующих решений.
Так, надгробная стела перестает быть только культовым знаком-памятником, только самым общим изображением человека в его совершенной красоте, но наполняется и более реальным живым содержанием, а также особым элегическим и вместе с тем свободным от личностного конкретного переживания духовно-эмоциональным состоянием.
Свобода от личностно-конкретного переживания в конце зрелой классики будет оцениваться как отсутствие в образе того качества, которое становится важным и для зрителя и для мастера. Начнется постепенное внесение в надгробия соответствующего теме настроения. Пока же старый принцип мемориальных стел поздней архаики господствует и в стеле Аристиона (около 510 г. до н. э.) работы Аристокла. Продолжая традиции изображения спокойно стоящей фигуры, скульптор стремится, однако, к более ясной и непринужденной передаче естественной способности человека к движению, действию. Все же ощущение созерцательной сдержанности, торжественной успокоенности движения, объективно созвучное назначению композиции, здесь доминирует.
Важнее в этом памятнике подчеркнуть другое. Стройная фигура Аристиона, опершегося на вертикаль копья, великолепно вписана в вытянутые пропорции самой стелы. Вернее, следовало бы говорить не о том, что мастер вписывает фигуру в заранее найденное поле стелы, а о том, что он одновременно находит органическое единство мотива изображения и архитектурных пропорций самой стелы. Это как бы взаимообусловленный единый творческий процесс, при котором в единстве скульптуры и архитектуры ведущим и определяющим становится характер скульптурного замысла, что и отличает это синтетическое решение от вписывания монументальных храмовых скульптурных композиций в уже существующие формы и пропорции архитектурного здания. Некоторое ощущение созерцательной сдержанности, торжественной успокоенности движения объективно созвучно назначению композиции.
Подобные композиции исчерпывают эволюцию архаической пластики. Они одновременно несут зародыши тенденций, которые в своем дальнейшем развитии приведут к искусству классики.
КЕРАМИКА
Расписная керамика эпохи архаики по благородному изяществу форм сосудов, по блистательному мастерству росписей в так называемой чернофигурной технике, достигшей своего расцвета в течение первой половины VI в. до н. э., представляет собой одну из абсолютных вершин в истории мирового прикладного и изобразительного искусства.
В VII в. до н. э. в отличие от предшествующего периода расписная керамика утратила положение наиболее эстетически развитого вида пластических искусств. Возникла великая архитектура, искусство архаического ваяния, зарождалась живопись. Но в тесной связи и взаимодействии с другими видами искусств и вазопись впоследствии вступила в более развитой этап своей эволюции, заняв в художественной культуре времени достойное место.
Формирование керамики нового типа, выражающей в своих особых формах эстетические потребности полиса, его духовно-материальной культуры, было, кроме всего прочего, облегчено дальнейшим совершенствованием самой техники изготовления сосуда: разрабатывалась лучшая рецептура глиняной массы, улучшалось качество обжига, что давало возможность вылепливать прочные тонкостенные сосуды с чистой, гладкой поверхностью благородного оранжево-красного или вишнево-кирпичного тона, образующей идеальный фон для изящных силуэтов фигур. Эти изображения в период высшего расцвета чернофигурной техники представляли собой силуэты красивого черного цвета с густо-оливковым или синеватым оттенком1.
Успехи художественной керамики, конечно, частично были обусловлены общим техническим прогрессом, совершенствованием ремесел, что создавало материальные предпосылки и для решения собственно творческих задач, непосредственно выражающих новые представления греков об эстетике быта, о культуре вещи, об общем характере и назначении искусства. Все же решающее значение имело не дальнейшее совершенствование технической стороны дела. Как уже упоминалось, вазы, являясь предметами, связанными с культовой и бытовой сторонами жизни (лучшие вазы — с празднично-бытовыми), были и произведениями художественными, где принцип создания вещи по законам разума и красоты был наглядно подчеркнут, пластически выявлен.
1 Кроме черного цвета, вводились и другие цвета, в частности применялась белая краска для некоторых одеяний, иногда для передачи женского тела. Но в целом, особенно в период зрелости чернофигурной техники, основной художественный эффект росписи строился главным образом на сопоставлении черного силуэта с фоном.
77
Собственно художественный аспект эволюции архаической керамики характеризовался развитием и обогащением эстетической выразительности форм, архитектуры сосудов, новым пониманием места И роли изображений в их украшении. Необходимо отметить, что облагораживание форм сосудов осуществлялось одновременно с созданием ордерной архитектуры как законченной и продуманной художественной системы. Древние гончары создавали систему строгой архитектонической композиции сосудов, подчеркивающей выразительность гармонических, разумно прекрасных пропорций форм и объемов. Характерно, что связь конструкций и пропорций сосудов с их функциональным предназначением, существовавшая, естественно, и раньше, выявляется с большей ясностью и одновременно с более непринужденной творческой свободой. Следует подчеркнуть, что архаическая керамика в этом отношении в отличие от зодчества опиралась на высокоразвитое наследие архитектоничных форм керамики геометрического стиля.
Более глубокое значение имело изменение стиля самих изображений. В целом при переходе от гомеровской эпохи к архаике принципиальное эстетическое значение имело стремительное формирование развитого монументального изобразительного искусства, монументального синтеза ваяния (отчасти живописи) и зодчества. Этот процесс не мог не найти своего выражения и в керамической росписи. Именно в сфере росписи разрыв с традицией, перестройка всей художественной концепции образного содержания и его роли в убранстве сосуда были особенно существенны. Искусство переходило от изображения-знака, изображения-символа к (изображению-образу. Все явственнее телесная красота человека, благородная внутренняя архитектоника и ритмическая жизнь его тела, а не красота ритмизованного орнамента и метрического повтора схематизированных поз привлекали внимание художников.
Возникло и новое понимание передачи взаимоотношения персонажей, объединенных общим действием-событием. В вазописи эти проблемы стали разрабатываться едва ли не раньше, чем в скульптуре. Естественно, по-новому ставится и проблема взаимоотношения образно-изобразительного и декоративного начал и вазовой росписи. Создается своеобразный, иной, чем в эпоху геометрики, синтез изображения и архитектуры сосуда. Поэтому, учитывая высокий удельный вес изображения в том особом синтезе, который представляет собой расписная керамика, мы и говорим о ней как об искусстве одновременно и прикладном и изобразительном.
Художественные традиции архаической керамики и керамики классики драгоценны и для нашей современной художественной промышленности и для нашего изобразительного искусства. Конечно, речь идет не о стилизации. Было бы нелепо вводить в наш быт с его иным укладом и разнообразием материалов и форм утвари набор изделий из обожженной глины, имитирующий античные формы. Но разве для нас, не до конца еще преодолевших тяжеловесность помпезных, раскрашенных под станковую живопись предметов, изящная простота и целесообразная красота форм античной керамики не поучительны? Разве непринужденность и одновременно конструктивно ясная разумность пропорций этих сосудов не звучат живым укором той псевдофантастичности, модной бесформенности, которые характеризуют некоторые тенденции в современной художественной промышленности? Удивительное обаяние исполненных жизни и строгой обобщенности изображений зрелой чернофигурной, а затем краснофигурной вазописи, их благородный графизм не могут не волновать современного мастера прикладного искусства. Во всяком случае, античная расписная керамика — одна из вершин мирового изобразительного искусства прошлого, являющаяся и сегодня объектом живого эстетического наслаждения, — лишь в последние годы становится предметом художественного потребления наших мастеров.
Возвращаясь к греческой вазописи эпохи архаики, следует отметить, что к началу VI в. до н. э. почти полностью исчезают монументальные вазы, служившие надгробиями. Расширяется сюжетно-тематический круг росписей и создаются более богато дифференцированные системы их форм и пропорций. Основные типы сосудов, их конструкция были ясно определены, но каждый мастер, считаясь с заданными размерами, а иногда и с характером возможного сюжета, а главным образом со своим органическим чувством красоты и выразительности форм, давал в пределах общей, четко установленной системы свои индивидуальные оттенки решения. Это придавало сосудам ту живую непосредственность, ту органичность существования, ту свободу от следования заранее заданной, отвлеченной нормативной схеме, которые и составляли главное обаяние керамики архаического и классического времени.
Формы основных типов сосудов обусловливались их практическим предназначением. Правда, часто при создании сосудов для вотивных приношений или призов их реальное практическое использование не предполагалось, но, во всяком случае, наслаждение единством красоты и целесообразности, выраженном в формах сосуда, было существенной и привычной стороной эстетического восприятия времени. Так, большая, округло стройная, узкогорлая амфора с двумя удобными для переноса вертикальными ручками предназначалась в древности для хранения оливкового масла, а также вина. Форма амфоры сложилась еще в гомеровскую эпоху. Но простое сравнение ранней амфоры геометрического стиля с амфорой зрелой архаики показывает, насколько амфора VI в. до н. э. благороднее по своим пропорциям, ее изящные формы, не теряя своего соответствия назначению, менее прямолинейно подчинены принципу целесообразности, чем тяжело приземистая амфора геометрики. Округленный кувшин с тремя ручками и устойчивым основанием — гидрия предназначался для переноса воды. Кратер, представлявший собой широкогорлый сосуд, установленный на устойчивой широкой подставке, служил для смешивания воды и вина во время пира. Чаша для питья вина — килик имел часто ножку, удобную для охвата рукой. Сосуды для черпания вина из кратера — киафы обладали высокой, изящно изогнутой ручкой; другой характер имели лекифы — маленькие сосуды с одной грациозной ручкой, в них хранили умащения и благовония.
78
В конце архаики и особенно в период классики сюжеты росписи начинают все чаще соответствовать назначению сосуда, образовывая не только стилистическое, но и тематически-образное единство. Так, на ле-кифах V в. до н. э., предназначаемых для свершения возлияний теням усопших, изображались, как и на стелах, сцены прощания близких с умершими или сцены жертвенного возлияния на могилах. На гидриях — нимфы источников или (как на аттической гидрии VI в. до н. э.) женщины, набирающие воду у источников и несущие на голове наполненную водой гидрию. На кратерах часто видим сцены, связанные с культом Диониса (нимфы, преследуемые сатирами, дионисийские шествия и так далее). Испив вино из килика, пирующий мог увидеть изображение бога вина Диониса, плывущего на корабле, увитом лозою.
В эпоху архаики, да и в значительной мере в эпоху классики основной репертуар тем и сюжетов заимствовался из неисчерпаемого богатства античных мифов, эпических сказаний. В конце архаики, при переходе к классике, относительно большую роль начинают играть изображения, почерпнутые непосредственно из реальной жизни — гимнастические упражнения, работа гончаров, литейщиков, пиршественные сцены и так далее.
Проявляемое вазописцами мастерство композиции, умение вписать ее в архитектурные формы сосудов, блестящее сочетание декоративности с жизненной непосредственностью восприятия определяют особую эстетическую ценность искусства вазописи. Естественно, эти качества наибольшее выражение получали в более дорогих сосудах, предназначенных для украшения пиршественных столов, для вотивных приношений в храмы, для наград победителям в состязаниях. Чувство уважения к творческому началу своего труда было присуще гончарам и вазописцам античности, большей частью свободным гражданам полиса. Поэтому уже в архаике получил распространение обычай подписывать вазы именами вазописца, а часто и гончара. Следует учесть, что в мастерских крупных гончаров, кроме хозяина и, так сказать, главного конструктора, широко применялся труд подручных мастеров, а также для подготовительных стадий работы и труд рабов. Во всяком случае, подпись главного гончара или художника ставилась на наиболее совершенных образцах гончарного искусства, обычно выполняемых настоящим мастером. Архаика — время первого расцвета полиса — была и временем пробуждения и утверждения чувства ценности и достоинства человека как свободного участника гражданской жизни полиса. Расцвет «личной» лирической поэзии и появление подписей на статуях и вазах были внутренне связанными явлениями.
Архаическая керамика не сразу пришла к своему расцвету. Между шедеврами зрелого геометрического стиля, особенно ярко представленного керамикой из Дипилонского некрополя в Афинах, и блистательным расцветом собственно чернофигурной вазописи лежал вековой переходный период. Более того, как иногда бывает при таких коренных перестройках художественного мировоззрения, распад старой, в своем роде совершенной стилистической системы и зарождение новой оказывался связанным с некоторой потерей художественного качества. Старая орнаментальная система распадалась, новая система с трудом пробивала себе путь, ломая изживающие себя старые формы и лишь постепенно нащупывая решения нового типа. Уже во второй половине VIII в. до н. э. в рамках зрелого геометрического стиля, точнее в одном из его направлений, появляется стремление оттеснить собственно геометрический орнамент схематическим и строго симметрическим изображением стилизованных фигур. Таково, например, изображение воина с двумя конями, заполняющими почти всю поверхность тулова аттической ойнохои (сосуда для вина с горлом в виде трилистника). Силуэтная плоскостность изображения, пренебрежение реальными пропорциями ради сохранения общего декоративного впечатления целого и так далее показывают, что сосуд относится к геометрическому стилю и все же, по существу, в нем возникают новые тенденции, которые скоро начнут решительно изменять старое понимание роли и места изображения в вазовой росписи.
Переходный характер имеет и протоаттическая лутофора (форма, близкая амфоре) из Лувра самого начала VII в. до н. э. Сцены конских ристаний и своеобразного хоровода, изображенного на горле сосуда, занимают уже большее место в росписи сосуда, чем процессия воинов с колесницами на амфорах конца VIII в. до н. э. из Дипилона. Кроме того, силуэты коней и людей на лутофоре более гибкие. И в орнаменте собственно геометрические мотивы начинают вытесняться характерными для так называемого ориентализирующего стиля в вазописи VII в. до н. э. волнистыми узорами и пальметтами растительного происхождения. В результате изобразительно-орнаментальное убранство лутофоры создает впечатление большей гибкости, орнаментальной подвижности и свободы построения. Вместе с тем помещенные на верху горловины шагающие крылатые сфинксы (по сравнению с изящно стилизованными силуэтами ланей с большой дипилонской амфоры) кажутся несколько тяжеловесными по пропорциям и движениям.
Наиболее остро утрата строгой дисциплины и былой ритмической ясности, благородной пропорциональности декоративных форм зрелого геометрического стиля сказывается в двух вазах, созданных между 675 и 650 гг. до н. э. Их композиции представляют двойственность керамики переходного периода.
В амфоре из Беотии центральную роль в композиции играет изображение Персея, поражающего Медузу. По существу, это попытка сконцентрировать наше внимание на занимающей центральное положение в росписи, законченной в своем действии сюжетной сценке, то есть уже ставится задача, характерная для одного из основных направлений в эволюции архаической керамики.
Однако врезанная в орнамент вазы композиция как бы разрушает зрительную целостность росписи. Еще не найдено то гармоническое соотношение, которое существует между господствующим изображением-сценой и как бы аккомпанирующими ему орнаментальными мотивами в вазописи зрелого чернофигурного стиля. Черты несовпадения стилистики изображений
79
и орнамента, намечающиеся уже в зрелом и позднем геометрическом стиле, здесь выступают с особенной ясностью. Вместе с тем и в самом изображении еще дают себя чувствовать старые представления. Медуза и Персей не столько борются друг с другом, сколько предстоят друг другу. Акт убиения Медузы дан информативно. Старательно отмечен, однако, такой важный магический мотив, как повернутое назад лицо Персея (как известно из мифа, человек, взглянувший в глаза Медузе, мгновенно окаменевал). Но и этот поворот дан жестко и угловато. По сравнению со знаменитой селинунтской метопой, исполненной суровой энергии и монументально величавого ритма, композиция поражает своей глубокой архаичностью. Не случайно нейтральное спокойствие самих поз и их статичность несколько напоминают маленькую бронзовую статуэтку конца геометрического стиля, изображающую героя, сражающегося с кентавром.
Хронологически почти одновременен лутофоре динос (род кратера) с острова Эгина (675—650 гг. до н. э.). На одной из его сторон изображено, видимо, убийство Агамемнона Эгисфом и Клитемнестрой. Роспись выполнена в относительно сложной технике (применение черного, белого, буро-красного цветов при нанесении фигур по желтоватой обожженной глине); в ней сочетаются и покраска и процарапывание. Сами фигуры уже изображены отнюдь не силуэтно. Однако, отойдя от абсолютной силуэтности геометрического стиля, мастер еще не обрел той пластически силуэтной выразительности фигур и сдержанной, скупой дифференциации формы внутри контура, которые будут характерны для вазописи VI в. до н. э.
В самой композиции создатель росписи решительно отказывается подчинять группу общему ритму и стилю геометрического орнамента. О старых традициях говорит лишь идущий понизу фриз со стилизованным изображением коней. Их фигуры уже утрачивают былое силуэтное изящество росписей геометрического стиля, но все же они не лишены прежней ритмической красоты по сравнению с сюжетными изображениями. В последних мастер, сохраняя плоскостность изображения, удивительно грубо и неумело передает фабулу события и его драматизм. Фигуры носят почти карикатурный характер, пропорции тел чудовищно наивны. Казалось бы, перед нами пример упадка мастерства. Отчасти это, возможно, и так. Вместе с тем здесь очевидны перестройка стиля, поиски новых средств решения образа.
В целом роспись «Убийство Агамемнона» является одной из первых попыток образно воплотить действие-событие, а не дать его знак-схему. Движения крохотных рук-лапок Клитемнестры пытаются передать эмоциональное состояние. В правом углу композиции изображена бегущая фигурка: то ли это, как положено было бы по сюжету, Агамемнон, то ли какая-то обезьяна. Но при полном разрушении старого канона новый канон еще не определился. С чем, вероятно, и связано то, что бег этой фигуры дан очень динамично. Коленопреклоненный бег, сочетающий живой мотив движения с условной, но монументально-декоративной выразительной схемой, здесь едва ли еще намечен. Отдельные фигуры росписи носят гротесково-экспрессивный характер. Может даже показаться, что вся композиция росписи и по замыслу носит гротесковокарикатурный характер, является, так сказать, реакцией на величавую торжественность старого стиля, подобно той роли, которую играл комический эпос «Войны мышей и лягушек» (VI в. до н. э.) по отношению к эпосу героическому. Однако, видимо, момент гротесково-комический здесь не был заложен в замысел произведения. Он скорее всего является результатом нашего восприятия.
Важно отметить, что на протяжении всего VII в. до н. э. и в начале VI в. до н. э., используя пышные декоративно-орнаментальные формы ваз, идущие с восточной части греческого мира, мастера разрабатывали собственно сюжетную линию. Это выражалось в постепенной кристаллизации нового метода соотношения изображения с формой сосуда и новой, более реальной манеры изображения того или иного события. В вазах этого направления, получившего в дальнейшем господствующее значение, долго еще изображение человека поражало своей почти гротескной экспрессией, известной непропорциональностью форм тела. Именно в период зрелой архаики, то есть с середины VI в. до н. э., можно говорить о сознательно применяемом комическом или карикатурном моменте, противостоящем благородной красоте тела на изображениях, посвященных поэтическому, героическому или лирическому началу жизни. Такова, например, чернофигурная табличка VI в. до н. э., карикатурно изображающая рабов-горняков.
Обратимся, однако, к процессу дальнейшего развития архаической керамики. В течение VII в. до н. э. относительное эстетическое совершенство обретает широко распространенная ориентализирующая линия в вазописи. В это время главными центрами вазописи были в островной и малоазийской Греции Родос и Хиос, в собственно Греции таким центром становится Коринф. Хиосская, родосская1 и отчасти коринфская вазописи носят подчеркнуто праздничный, декоративный характер. Создавая новый стиль росписи, греческие гончары опирались на художественную культуру Востока, отсюда и термин «ориентализирующий», или «ковровый» стиль, которым часто обозначается это направление.
Динос со звериным фризом с острова Родос из Лувра (около 600 г. до н. э.) дает о нем ясное представление. Так же, как в геометрическом стиле, орнамент расположен в виде ряда лент, охватывающих тулово вазы. Однако изящные изображения животных решительно превалируют над абстрактным орнаментом. Гибкая текучесть линии решительно противостоит жесткому геометризму. Для мастера росписи пустая поверхность сосуда все еще воспринимается лишь как художественно необработанная плоскость. Поэтому он заполняет свободное поле между изображениями введением орнаментально-декоративных мотивов: пальметт, розеток и так далее. Сочетание бледно-желтой поверхности сосуда с коричнево-бурым, слегка
1 Группа памятников этого стиля носит также название родосско-ионийской керамики. Дело в том, что родосцы были дорянами по происхождению. Но общность типа экономический деятельности, связи с Востоком определяли и сложение общей стилистики керамики ряда центров Восточной Греции как ионийского, так и дорического происхождения.
80
подцвеченным силуэтом создает красивую сочную гамму. Особого же декоративного богатства цветовая гамма достигает в коринфских сосудах, где основное сочетание желтого фона и буро-коричневых изображений дополнялось белой и пурпуровой красками.
В последней четверти VII в. до н. э. параллельно с лентообразными росписями, скользящими вокруг тулова, все чаще появляются росписи, в которых происходит разделение поверхности сосуда на два самостоятельных композиционных поля. Каждое из них воспринимается с одной точки зрения и не требует вращения сосуда. Это как бы зарождение концепции изобразительного образа, понятого не как охватывающий сосуд сплошной декор, а как законченная в себе центрическая композиция. Зародыши такого решения намечались и в геометрическом стиле (введение в сплошной поток орнаментальных лент замкнутого изображения погребальной сцены), но там оно являлось как бы частным моментом в общем ленточном потоке геометрического орнамента и, как правило, не строилось по принципам уравновешенной, симметрично замкнутой композиции. Упомянутый ранее динос с острова Эгина порвал с этой системой, хотя и очень неумело. Стремление выделить замкнутую, завершенную в себе композицию (что, вообще говоря, характерно для эстетического сознания зрелой архаики и классики) проявляется особенно последовательно в фигурно-сюжетных композициях и связано с более реальной живой передачей и человеческого тела и взаимоотношений объединенных общим действием персонажей. Этот процесс проходит ряд промежуточных ступеней.
Так, переходный характер носит блюдо с острова Родос конца VII в. до н. э. Круглая форма дна как бы облегчала создание уравновешенной центрированной композиции. Автор росписи блюда вписывает в круглое поле композиции некое законченное в себе событие, действие. Это борьба Менелая и Гектора за труп Эвфорба, так называемое блюдо Эвфорба. Правда, сама уравновешенность композиции носит еще несколько декоративно-условный характер. Менелай и Гектор изображены симметрично. Но труп убитого героя нарушает симметрию, поскольку он не может быть по условиям сюжета уравновешен аналогично лежащей фигурой. Ввиду отсутствия эмоциональнообразной характеристики состояния героев художник прибегает к условно-изобразительному решению. Эвфорб лежит головой к Менелаю, стоящему над ним и как бы обороняющему его от Гектора. Отход от зеркальной симметрии здесь еще воспринимается как вынужденная передачей сюжетного смысла изображения необходимость. Художник также стремится разукрасить дополнительным декором дно чаши. И для него пустое пространство является лишь требующей украшения поверхность сосуда, а не той воображаемой средой, в которой действуют герои события. Напряженные поиски новых принципов понимания декоративной связи росписи с формой и конструкцией сосуда, интерес к выявлению самостоятельной образной ценности изображения по-разному проявляются во всех основных центрах вазописи VII в. до н. э. Одной из ваз, завершающей переход к стилю развитой архаики, является относящийся к самому концу VII или началу VI вв. до н. э. динос. Он создан не известной нам по имени яркой творческой индивидуальностью, обозначаемой по своей наиболее значительной композиции мастером Горгон. Наиболее интересна полоса росписи, расположенная в верхней части сосуда, — Горгоны, преследующие убегающего от них Персея, по отношению к которой остальные орнаментальные полосы имеют как бы подготовительное значение. Хотя Горгоны изображены по схеме коленопреклоненного бега с традиционным разворотом всего тела на плоскости (ноги — в профиль, торс — в анфас), сам силуэт Персея уже являет собой попытку более реалистической и динамической передачи бега. Движение Горгон начинается от стоящей фигуры богини Афины и, таким образом, имеет начало, а не равномерно обегает весь круг сосуда. При поворачивании сосуда мы вслед за Горгоной видим и Персея, навстречу которому выезжает колесница его сотоварища; тем самым движение получает остановку, и вся сцена, хотя для ее прочтения необходимо вращение сосуда, все же, подобно архитектурному фризу-зофору, имеет свое начало и завершение.
Своеобразный вариант аналогичных тенденций развития вазописи можно увидеть в росписях прекрасной по пропорциям амфоры аттической работы конца VII в. до н. э. так называемого мастера Несса. Тулово сосуда занято изображением летящих Горгон. На шейке сосуда в композиционно выделенном метопообразном поле изображена битва Геракла с кентавром Нессом. Угловатая живость в передаче движения представляется шагом вперед к вазописи зрелой архаики. Последние две вазы отличны от предшествующих и по технике исполнения. Они являют собой пример чернофигурной техники, наиболее соответствовавшей стилистическим потребностям развитой архаической вазописи. Глянцево-черный силуэт четко вырисовывается на оранжево-коричневом фоне поверхности сосуда, контрастность цветового сочетания усиливает четкость и чистоту восприятия силуэтных фигур. Процарапывание линий внутри силуэта дает возможность, сохраняя общую графическую плоскостность изображения, выявить анатомию фигуры. Сдержанное введение подцветки, не нарушая обшей графичности целого, помогает дополнительно уточнить детали изображения. Сочетание острой динамической декоративности с чуть жесткой, но подчеркнутой жизненной экспрессией движения, тонкое равновесие между стремлением к имитации натуры и заботой о сохранении органической декоративной цельности изображения — характерные черты этого стиля.
Конечно, наряду с чернофигурной техникой продолжала некоторое время развиваться и ранняя более живописная техника. Такова, например, коринфская гидрия середины VI в. до н. э. со сценой оплакивание Ахилла. Однако решающее значение и здесь имело стремление к новой концепции образа человека и сюжета. Сцена оплакивания занимает центральное место в убранстве тулова вазы и решительно господствует над всеми остальными элементами декора. То, что эта сцена, объединяющая плакальщиц вокруг ложа с усопшим Ахиллом, аналогична подобной же сцене на дипилонской амфоре, лишь подчеркивает различие двух форм художественного восприятия мира.
81
Композиция коринфской гидрии в отличие от самых ранних архаических ваз проникнута ясным ритмом. Но этот ритм принципиально отличен от повторной метричности дипилонской амфоры. Он богат оттенками, но не монотонен. В нем есть передача дифференцированного единства состояния духа плакальщиц. Движения их еще условны, однако уже исполнены некоей одухотворенности. С почти музыкальной ясностью соотнесены друг другу сдержанно скорбные движения плакальщиц, рвущих на себе волосы, и движения других, горестно протягивающих руки к Ахиллу. Наличие образно выраженного внутреннего духовного состояния, новая, более непосредственно жизненная сдержанность ритмов и движений противостоят геометрическому стилю и одновременно решительно преодолевают угловато наивную экспрессию ранней архаики.
Одним из наивысших достижений в создании сложных многофигурных композиций явилась так называемая «Ваза Франсуа». Кратер, выполненный около 560 г. до н. э., был подписан именами гончара Эрготима и живописца Клития. Кратер, высотой почти 70 сантиметров, украшен серией лентообразных фризов. На самом нижнем, более декоративном, представлены реальные и мифические звери. В следующих полосах мастер развертывает серию мифологических эпизодов. Центральное место среди них занимает изображение торжественной процессии олимпийских богов, направляющихся на свадьбу Пелея и Фетиды. На горле сосуда изображен стремительный бег колесниц, особенно остро воспринимающийся по контрасту с величавой торжественностью главного фриза.
Верхний ободок горла декорирован узкой полоской с изображением охоты на калидонского вепря. Самая массивная фигура росписи ободка — вепрь — дан в движении, противоположном направлению стремительного бега колесниц. Так, два фриза образуют подвижное уравновешенное целое — своеобразный провозвестник тех сгармонированных контрастных соотношений, которые будут столь типичны для больших монументальных синтезов классики.
Казалось бы, система ряда независимых изобразительных полос, обтекающих сосуд, несколько архаична. Но тот факт, что они находятся в определенной не только сюжетной, но и композиционно-масштабной взаимосвязи, определяет новизну художественного решения. Так, блестяще найдено соотношение масштабов и ритмов каждой ленты, которое превращает роспись вазы не только в поэтически яркую сюиту образов, но и в сложное и уравновешенное композиционное ритмическое единство изображений, тесно связанное с формами вазы, с членениями ее архитектонической конструкции. Подобно сложным скульптурным ансамблям, введенным в архитектуру, роспись фризов образует некую широкую и целостную картину окружающего мира.
Все же следует признать, что в дальнейшем такие сложные многоярусные росписи совсем исчезают. Мастера того времени, видимо, полагали, что относительно небольшой масштаб сосуда требовал более легкообозримого изображения. Кроме того, стремление теснее связать поле композиции с основными членениями формы сосуда было обусловлено конструктивным восприятием грека, его растущей тягой к пластически завершенной, замкнутой в себе форме, к исчерпывающе ясному законченному образу.
Художественное совершенство чернофигурной вазописи воплощено в бесчисленном количестве произведений, созданных яркими и своеобразными локальными школами, среди которых все большее значение приобретает аттическая школа. Можно привести только несколько примеров, характерных для основных художественных тенденций внутри разнообразного богатства форм и образов. Так, интерес к введению в вазопись реальных сцен жизни, либо мифологически мотивированных либо непосредственно почерпнутых из действительности, проявляется как в тенденции к развернутому сюжетному повествованию о некоем событии, так и к более лаконическому изображению мотива, интересному не столько сюжетным рассказом, сколько пластической красотой своего воплощения. Примером сюжетно-повествовательного решения темы является лаконская чаша, изображающая, как о том гласит соответствующая надпись, царя Аркесилая II, наблюдающего за взвешиванием товаров перед отправкой их, видимо, на корабль. Хотя композиция и не лишена некоторых черт примитивности (в частности, под влиянием иерархических систем восточного искусства мастер изобразил работников меньшими по масштабу, чем восседающего царя), все же наивная наблюденность движений и неожиданный для предшествующей эпохи жизненно конкретный характер самого сюжета делают возможным отнесение этого килика к керамике, решающей новые задачи. Именно в этот период встречаются и росписи, где гротесково-сатирическая интонация, комизм эффекта входят в круг задач мастера. Таковы комическая характеристика Бузириса в росписи «Геракл и Бузирис», комическое изображение борьбы пигмеев с Гераклом и так далее.
Более поэтический характер имеют такие изображения, как свободно вписанный в обод килика полный динамизма силуэт возницы, погоняющего бигу. Подобным чувством выразительной красоты живого пластического мотива проникнуто изображение медленно едущей пары всадников работы мастера Лидоса. Всадники прекрасно вписаны в метопообразное поле, расположенное в верхней части амфоры. Сдержанное спокойствие их движений контрастно оттенено силуэтом летящей птицы. Она введена дополнительным элементом уже не для того, чтобы заполнить пустую поверхность композиции, а чтобы усилить ее выразительность. Любопытно, что жизненная наблюденность в передаче движения коней, правдивая точность в изображении пропорций человека здесь несколько меньше волнует художника, чем общая ритмическая выразительность силуэта и композиционная уравновешенность целого.
Не менее характерно и то, что связанные с культом и мифами изображения, как, например, композиции, посвященные жертвоприношению Дионису на ионийской гидрии из Церы (последняя треть VI в. до н. э.), освобождаются от иератической торжественности и обретают конкретно жизненный характер. Дионис изображен в тех же масштабах, что и люди, его движения, поза столь же жизненно естественны. Для эллина
82
эпохи архаики и классики не было непроходимой грани между богом и человеком. Не случайно поэтому в композициях, посвященных мифическим событиям, в последнюю треть века все чаще вторгаются мотивы грубоватой жизненной наблюденности, почти жанровости. Так, на прекрасной церетанской гидрии последней трети VI в. до н. э., изображающей Геракла, приведшего пойманного им страшного Цербера к Еврисфею, не без юмора изображен трусливый царь, позорно прячущийся от страшного зверя в огромный пифос.
Однако основной пафос зрелой чернофигурной вазописи состоял все-таки не столько в жанрово-бытовой конкретизации образа, сколько в утверждении его величавой героичности. Так, мастер Псиакс, обращаясь к изображению борьбы Геракла с немейским львом (роспись амфоры, около 520 г. до н. э.), при всей жизненной наблюденности движений строит образ в основном на ясном и выразительном контрастном сопоставлении сдержанной стремительности изящной фигуры Афины и мощного, полного героического напряжения борющегося со львом Геракла. Сопоставление изгибающегося, поддающегося усилию тела зверя и наполненного властной энергией волевого тела Геракла представляет следующий шаг в искусстве по сравнению со скульптурной композицией, посвященной борьбе Геракла с Тритоном (на фронтоне первого Гекатомпедона в Афинах), и предвосхищает рельеф метопы «Борьба Геракла с критским быком» из храма Зевса в Олимпии.
Завершают эволюцию чернофигурной вазописи и как бы подготавливают переход к ранней классике работы группы мастеров второй половины века. Крупнейшим среди них был Эксекий (третья четверть VI в. до н. э.). Его изображение Ахилла и Аякса, играющих в кости, сочетает большую конкретность, почти жанровость мотива с ясной завершенностью композиции. Характерный для поздней архаики и классики принцип, состоящий в том, что прекрасным является произведение искусства, которое изображает явление в его законченности, в его исчерпываемой обозримости, в некоей типической устойчивости характерных состояний героев, получает в вазописи у Эксекия свое первое совершенное воплощение. Глаз зрителя концентрируется на самом событии, на ясной кристаллической законченности его изображения. Поэтому таким внутренним напряжением пронизана композиционная дуга, замыкающая в себе обе склоненные фигуры. Замкнутой дуге склоненных спин контрастно противостоит графическая острота расходящихся от центра вверх и в стороны дротиков, прислоненных к плечам героев. Эксекий мастерски владеет полем композиции, заданным для изображения самой конструкцией сосудов. Так, в росписи наружной стороны килика «Дионис в ладье», посвященной борьбе героев за труп павшего воина, основное поле тулова сосуда украшено орнаментальным мотивом — изображением стилизованных глаз, имеющим определенное магическое значение. Фигурную композицию Эксекий располагает вокруг боковых ручек сосуда. Справа и слева от ручки изображены сражающиеся воины, а в узкую горизонтальную полосу, которая остается между ручками и основанием сосуда, он вписывает тело убитого героя.
Подобная по своей трудности задача не могла бы быть органически решена его предшественниками. А Эксекий, преодолевая трудности, как бы извлекает дополнительные предпосылки для создания особо выразительного художественного решения. Стремительная энергия сражающихся, свободно развивающих свое движение, неожиданная жизненность композиционного решения особенно наглядно выступают при сравнении работы Эксекия с росписью раннего архаического так называемого блюда Эвфорба.
Эксекию в высшей мере свойственно сочетание изображения, живущего по своим графическим законам, с декоративной выразительностью целого. Такова его композиция на дне килика «Дионис в ладье». Сюжет посвящен легенде о Дионисе, севшем в корабль к морским разбойникам. Плененные красотой неузнанного бога, они хотели схватить его, чтобы обратить в рабство и продать. Но Дионис превратился во льва, и в ужасе бросившиеся от него в воду разбойники были обращены божественной волей в дельфинов.
Эксекий изображает не сам ход события, а как бы его поэтический итог. Вновь принявший божественночеловеческий облик, Дионис возлежит на скользящей ладье, окруженный живым плеском дельфинов. Удлиненный изогнутый силуэт корабля как бы скользит по поверхности неизображенных волн моря. Роль символического обозначения среды берут на себя дельфины — их гибкие силуэты ассоциативно вызывают ощущение быстрого бега волн. Разбросанные по полю композиции дельфины, противоположные по изгибу своего силуэта ладье, создают ощущение стремительно легкого, почти «плещущего» движения. Выразительной упругости движения дельфинов противостоит и изящная декоративность изображения виноградной лозы, чудесно процветающей над мачтой корабля и осеняющей Диониса. Промежуточное ритмическое состояние выражено в надувшемся парусе. Свободное расположение дельфинов по кругу в нижней части чаши и спокойное изящество тонкой лозы и грузных кистей, осеняющих верхнюю половину круга, создают полное живых контрастов законченное обрамление замкнутой в себе композиции, в центре которой господствует образ полулежащего Диониса. Творение Эксекия — пример поэтического богатства метафорического мышления древних греков, сочетающего декоративную выразительность целого с многообразием образно-поэтических ассоциаций.
Во многом родственна Эксекию манера не известного нам вазописца, украсившего изящный по своим пропорциям килик гончара Никосфена двумя кораблями, скользящими под наполненными ветром парусами. Если Эксекий поражает нас утонченной поэзией образов и глубоким постижением композиционной гармонии, то в росписях его младшего современника вазописца гончара Андокида удивляет смелое введение в силуэтную чернофигурную вазопись очень разнообразно и живо трактованных почти жанровых мотивов движения. Такова амфора, изображающая Геракла, ставшего на одно колено и подманивающего к себе Цербера. В дальнейшем интерес к конкретной реальности изображения, а в особенности появившееся стремление к передаче объемности человеческого тела приводят к поискам новых стилевых приемов.
83
Искусство того времени, связанное с именами Эксекия, Никосфена, Андокида, является вершиной расцвета чернофигурного стиля.
Однако именно классическая зрелость стиля, полнота раскрытия его возможностей в дальнейшем приводят к зарождению новых тенденций, к перестройке образного языка вазописи, связанного с переходом к классике. Правда, этот период не носил характера той абсолютной перестройки всех принципов и форм искусства, который был связан с переходом от геометрики к архаике. Но все же к концу VI в. до н. э. чернофигурная техника уже себя исчерпывает, вступая в противоречие с новыми стилистическими исканиями художников. Подобно тому как в конце VI — начале V в. до н. э. в скульптуре происходит постепенная перестройка художественного языка, подготавливающая появление классики, в керамической росписи происходят аналогичные изменения. Не случайно именно в последней четверти VI в. до н. э. наряду с чернофигурной вазописью возникает краснофигурная техника, при которой черным становится фон, а силуэт фигуры сохраняет красноватый тон обожженной глины. Суть дела состояла не только в том, что красноватый фон глины легче ассоциировался с реальной окраской человеческого тела, чем черный силуэт. Важное значение имело то, что детали строения тела — мускулатура, ее движение и напряжение передавались в краснофигурной вазописи не путем процарапывания, а свободно наносились черным штрихом, что придавало большую пластичность и выразительность моделировке тела. Параллельное сосуществование обеих техник вело иногда к их совмещению в одном сосуде. Так, уже названный «предклассический» всадник Эпиктета, выполненный в чернофигурной технике на дне килика, сочетается с очень живым краснофигурным изображением силенов на его наружной стенке.
Конечно, специфические стилевые возможности, скрытые в краснофигурной технике, проявились не сразу, и в некоторых случаях мастера, начавшие работать в последней четверти VI в. до н. э. в новой технике, были связаны с приемами поздней архаики.
Все же ряд выполненных в краснофигурной технике работ конца VI в. до н. э. явственно подготавливает в своих художественных исканиях раннюю классику. Таковы уже упомянутое искусство Эпиктета, полные изящной жизненной стилизованности росписи Олтоса (обнаженные девушки на амфоре гончара Памфея) и произведения других мастеров. Подобно скульптуре конца VI в. до н. э. можно и в керамике выделить переходный период от архаики к классике, исполненной своеобразного, иногда чуть угловатого изящества. На грани классики и этого переходного периода стоит и такой большой мастер, как Евфроний.
Однако достижения архаики в области пластики, зодчества и особенно вазописи нельзя рассматривать лишь как несовершенные подготовительные к классике формы искусства. Если же говорить о керамике, необходимо отметить, что ценность наследия керамики зрелой архаики необычайно велика. В ряде отношений ее достижения не уступают классике. Классика получила от архаики блестяще разработанную систему благородных форм сосудов. Ничего существенного, принципиально нового здесь не было добавлено. С точки зрения единства образно-декоративного и образно-изобразительного начал чернофигурная вазопись создала образцы непревзойденные. Главным вкладом керамики классического периода явится обогащение образа человека — духовно-пластической выразительности человеческого тела. Это завоевание огромное, но оно не заставит нас забыть неповторимое и в своем роде совершенное художественное обаяние расписной керамики периода зрелой архаики.
ЖИВОПИСЬ
Об искусстве древнегреческой живописи как архаической, так и классической эпохи нам известно очень мало. Правда, открытия последних лет несколько расширили круг доступных нам произведений древнегреческой живописи. Однако от живописи VII—IV вв. до н. э. сохранилось лишь весьма небольшое количество подлинников, причем обычно не цельных композиций, а лишь отдельных фрагментов. Во всяком случае, количество да и качество этих подлинников не идет ни в какое сравнение с тем относительным обилием памятников, которыми особенно в последнее время мы располагаем при изучении греческой пластики и керамики.
Как известно, при изучении скульптуры важным, хотя и достаточно опасным подспорьем служат римские копии со знаменитых шедевров преимущественно V и IV вв. до н. э. В живописи также большую роль играет изучение реплик или копий римского времени. Таковы, в частности, многие работы из Геркуланума и Помпеи, создаваемые ремесленниками и мастерами, блистательно владеющими своим делом.
Трудность, однако, состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев такого рода работы восходили к образцам поздней классики или эллинизма. Видимо, именно живопись IV в. до н. э. казалась близкой и в какой-то мере созвучной искусству позднего эллинизма и Рима с их более развитым чувством среды, атмосферы, более гибкой и собственно живописной моделировкой пластической формы. По описаниям древних и по аналогичным явлениям в скульптуре и вазописи мы знаем также, что в период поздней классики зарождался интерес к более лирически интимному или конкретно жизненному развитию сюжета, относительно более конкретной характеристике психологической жизни героев. Именно это и было близко культуре эллинизма и Римской империи. Можно допустить, что живопись VII—V вв. до н. э. была не только далека от позднего эллинизма и Рима стилистически (это в какой-то мере относилось бы и к обильно копируемым шедеврам скульптуры V в. до н. э.), но в отличие от скульптуры еще не раскрыла своих специфических возможностей как вида искусства, находясь лишь на стадии становления, и потому, хотя и вызывала восхищение современников, не привлекала внимания позднейших копиистов.
Прежде чем перейти к самой общей характеристике собственно архаической живописи, следует упомянуть и о других источниках, опираясь на которые историки античной культуры пытаются восстановить картину
84
эволюции этого вида искусства. Такими дополнительными источниками являются отзывы древних авторов. Достаточно напомнить о сочинениях Плиния, Павсания, о ряде замечаний Плутарха, рассыпанных в его сравнительных жизнеописаниях.
Исследователям античной живописи помогает, кроме того, обращение к современной вазописи, дающее представление об общей стилистике изображения. Ведь в ряде случаев вазописцы использовали, вероятно, для своих росписей знаменитые в то время живописные композиции. Последнее имело особо широкое распространение в V в. до н. э., когда творили великие, пользующиеся большой славой мастера живописи. Сложный и трудный процесс сопоставления всех этих данных имеет огромное историко-культурное и художественно-историческое значение1. Мы же основное внимание уделим анализу меры эстетической ценности и особенностям художественного метода сохранившихся подлинников. Сама историческая эволюция будет дана лишь в общих чертах.
Судя в первую очередь по сохранившимся памятникам, следует отметить, что архаическая живопись не достигла уровня, сопоставимого с могучим подъемом ваяния и блистательным расцветом чернофигурной вазописи. Правда, несколько рискованно судить о типе и уровне греческой живописи VII—VI вв. до н. э. по отдельным работам и фрагментам иногда явно не лучших мастеров. При существующих условиях категорический вывод, основанный на использовании любых материалов или всех их, вместе взятых, не до конца надежен. И все же, сделав эту оговорку, можно заметить, что любые сохранившиеся подлинные работы в большей мере, чем литературные свидетельства древних, дают возможность судить об общем типе живописи, о характере ее художественной системы, о принципах ее художественного языка, которые в древние времена проявлялись достаточно ясно почти в любой вещи вне зависимости от качественного уровня исполнения.
В самом общем смысле, в пределах круга задач, очерченных перед искусством греческой культурой, живопись как бы отставала от скульптуры. Правда, цвет имел большое значение во всем изобразительном искусстве этого времени — и в вазописи и особенно в скульптуре. Но, как мы помним, расцветка скульптур отличалась декоративным характером. Да и архаическая живопись с ее декоративной, локальной раскраской, выявляющей силуэт или позже объем тела на плоскости, с ее почти полным отсутствием интереса к передаче окружающей среды не была достаточно обособлена по характеру зрительного впечатления от какого-нибудь плоского раскрашенного керамического рельефа.
Вообще относительно слабое осуществление возможностей живописи в эпоху архаики сравнительно с мощным, почти бурным расцветом скульптуры, с огромной выразительностью и внутренней содержательностью ее пластического языка является одной из черт, резко отделяющей культуру греческую от эгейской. Несмотря на преемственные связи, греческая художественная культура была культурой принципиально иного типа, чем эгейская. Там «иерархия» Ценностей, в том числе и соотношение между разными видами изобразительного искусства, была иной. Особенно явственно это сказывается при сравнении искусства Греции с искусством Крита. В критском искусстве не скульптура, а именно живопись с ее неповторимым сочетанием красочной декоративной динамики и жизненной непосредственности видения мира занимала ведущее положение. Настенные росписи в эгейском мире по своему удельному весу в жизни архитектурного ансамбля, в синтезе искусства, по полноте воплощения художественных идеалов времени превосходили возможности современной ей пластики.
В эволюции греческого полисного художественного сознания период зрелости живописи в пределах создаваемой «системы» наступил позже, чем период первого расцвета скульптуры и вазописи.
Однако выработка хотя бы общего представления о становлении живописи в эпоху архаики, об основных тенденциях ее развития имеет определенное значение не только для выявления исторической эволюции греческого искусства данного этапа. Она важна и для понимания путей дальнейшего развития греческой живописи периода ее расцвета, для определения тех значительных ценностей, которые несет в себе в качестве живого наследия античная живопись начиная с Vb. до н. э. возникновение монументальной греческой живописи относится к VII в. до н.э. Ее главными центрами считались Коринф и Сикион. Так, стены целлы храма в Олимпии были расписаны по существующим сведениям коринфскими мастерами Клеанфом и Аригоном. Архаические мастера живописи, подобно скульпторам, обращались в основном к мифологическим сюжетам или темам, связанным с мемориальными задачами. Клеанф создал композицию на тему рождения Афины и разрушения Трои. Аригон создал роспись, посвященную Артемиде. Судя по этим данным, античные мастера уже в ранний период архаики стремились к созданию больших изобразительных циклов. Но о самом характере этих изображений мы, к сожалению, не имеем понятия.
Известное представление о раннеархаической монументальной живописи дают сохранившиеся фрагменты раскрашенных керамических рельефов, украшавших фронтоны и метопы храмов VII в. до н. э.
В некоторых случаях такие метопы представляли собой плоские керамические плиты, расписанные живописцами. Собственно говоря, фрагменты таких плит и являются первыми, дошедшими до нас образцами монументальной архаической живописи. Эти немногочисленные памятники подтверждают, что живописи архаики были присущи повышенная декоративность и локальная передача цвета.
Таковы расписные метопы храма Аполлона в Фермосе (конец VII в. до н. э.). Плоскостность решения, графичность контура определяют стилистическую близость росписи работам вазописцев. Следует, однако, отметить, что напряженная выразительность и простота композиции по сравнению с более сложными по формам работами вазописцев показывают,
1 Читателю, интересующемуся более подробно методами такого комплексного изучения, можно рекомендовать книгу: А.П.Чубова, А.П.Иванова. Античная живопись. М., 1966. Это последний по времени сводный труд такого рода.
85
что древний живописец уже учитывал требования монументальной, воспринимаемой с относительно значительного расстояния росписи. При ограниченном количестве красок мастер все же стремился к впечатлению большей цветности, чем вазописцы. Так, на метопе с изображением Персея черный контур фигуры был нанесен на желтовато-розовый фон, фигура написана розовато-коричневым цветом, а при изображении одежды применены пурпурные и черная краски. На метопе из храма в Фермосе, изображающей две женские фигуры, сочетание пурпурного, черного, белого, розового и желтовато-розового создает декоративный цветовой аккорд, отличающийся звучностью и напряженной силой. Мы не знаем, был ли развернут в метопах единый сюжет, представлен цикл событий, связанных с судьбой одного мифического героя, или дан ряд изображений, не объединенных общей темой. Очень возможно, например, что на соседней с Персеем метопе была изображена Горгона. Это могло бы связывать две метопы единым сюжетом (напомним, что несколько позже аналогичный прием был применен на метопах сокровищницы в святилище Геры в устье реки Селы близ Пестума.
Наряду с произведениями монументальной живописи, непосредственно включенными в архитектуру, мастера VII в. н. э. и особенно VI в. до н. э. создавали небольшие произведения на керамических досках-табличках, так называемых пинаках. Пинаки обычно имели вотивный характер. Стилистически, насколько мы можем судить, пинаки сравнительно мало отличались от расписанных метоп. И хотя исследователи античной живописи иногда считают пинаки первыми образцами станковой живописи, нам думается, что они, подобно метопам, исполнены в общем для эпохи декоративно-монументальном стиле. Трудно также поверить, что мастер, создающий их для помещения и архитектурной среды определенного типа, не учитывал бы этого фактора, в то время как одно (не главное, но все же обязательное) условие станковой живописи и состоит в том, что картина создается в полном отвлечении от той архитектурной среды, в которой она может оказаться.
Фрагмент аттической пинаки конца VII в. до н. э., изображающей Зевса и играющего на лире Аполлона, дает представление об этом виде архаической живописи. Мастер находит определенную гармонию декоративно-живописного решения: светло-желтоватый фон, розовато-терракотовый цвет тела и красновато-коричневый цвет при передаче бороды, лиры и одежды. Поражают изящная точность графического рисунка и сдержанная элегантность цвета.
Особого расцвета специфические качества архаической живописи достигают в VI в. до н. э. В это время наряду с Коринфом выдвигаются такие центры живописи, как Афины, Милет и остров Самос. Мастера живописи начинают стремиться в росписях на пинаках к сочетанию декоративности цветового решения с большей реальной конкретностью в передаче событий. От этого времени до нас дошли и росписи, выполненные на дереве. Такое изменение имело не только техническое, но и художественное значение. Оно несколько расширяло палитру и давало свободу в использовании цвета. По сравнению с настенной живописью роспись на пинаках отличалась большей звучностью и цветосильностью красок. Эти изменения были связаны и с тем новым началом, которое стало ощущаться к середине VI в. до н. э. в архаическом искусстве. Для живописи этого времени характерно стремление к сочетанию в многофигурных композициях ясно переданной фабулы с монументально-декоративной выразительностью целого. Зарождается не только чувство выразительности цвета, но его большей жизненной конкретности и, главное, собственно живописно-ритмической композиционной связи цветовых поверхностей. Примером может служить пинака из Питсы, написанная клеевыми красками на деревянной доске со сценой жертвоприношения (540—530 гг. до н. э.). Спокойно сдержанный ритм движущихся фигур шествия, относительно реалистичная передача отдельных мотивов (мальчик, ведущий овцу на заклание, фигуры музыкантов) — характерные черты этой своеобразной поэтической композиции. Эта роспись имеет известные композиционные аналогии с работами некоторых вазописцев, например с коринфской гидрией из Черветри (после 550 г. до н. э.). Близка вазописи этого времени и сама стилистика изображения, что совершенно естественно, так как искусство античной Греции внутри каждого этапа отличалось единством своей стилевой системы. Все же роспись пинаки, видимо, не являлась творением большого мастера. В ряде отношений она уступает лучшим произведениям вазописи того времени (некоторая ритмическая вялость компоновки, менее выразительные «аттитюды» и силуэты). Но она ценна как один из немногих дошедших до нас подлинников VI в. до н. э. В собственно живописном решении ее отличает мягкая декоративная звучность целого. В основе цветовой композиции лежит сочетание чередующихся коричнево-вишневого, сине-голубого цветов гимантиев и хитонов. В этот аккорд вводится черный цвет причесок изображенных. Умело введены белые полосы на женских одеждах. Красиво выделяются золотисто-коричневые цвета предметов, несомых участниками процессии, — венок, флейты, лира, лекиф. В натуре эти предметы разноцветны и разнообразны по своему материалу. Художник же ограничивается тем, что противопоставляет их более дифференцированной цветовой жизни фигур. Следует признать, что живописная целостность впечатления от этого только выигрывает, что и соответствует стремлению подчеркнуть подчиненное положение предметных атрибутов и окружающей среды по отношению к образу человека. Кроме того, художник учитывал фактор восприятия росписи: зритель рассматривал композицию по движению фигур слева направо, оценивал определенное ритмическое чередование цветосочетаний, их продуманную гармонию, цветовое построение, имеющее свое особое развитие, свою внутреннюю музыкальность и поэтичность.
В целом при всей скупости цветовой гаммы роспись из Питсы отличает от вазовых росписей не только большое количество применяемых в ней красок, но и вообще большой удельный вес цвета в художественной структуре образа.
Заметное место в VI в. до н. э. занимает живопись малоазийской Греции. Согласно сведениям древних, малоазийские мастера наряду с произведениями на
86
мифологическую тему начинают создавать росписи, передающие исторические события современности. Так, известно, что Мандрокл с острова Самос, построивший через Босфор мост для персидского царя Дария, заказал картину, посвященную переходу по этому мосту персидского войска. Возможно, в характере сюжета сказалось влияние восточного искусства с его восхваляющими военные подвиги владык монументальными композициями. Вероятно, более типичны для греческой культуры VI в. до н. э. такие росписи, как созданная художником Калифоном Самосским композиция «Битва греков с троянцами у кораблей», украшавшая храм Артемиды в Эфесе.
Подобные росписи известны только по отзывам древних авторов, поэтому судить о стилевых приемах, применяемых в такого рода композициях ионийской и малоазийской Греции, можно лишь по росписям некоторых терракотовых саркофагов второй половины VI в. до н. э. с острова Родос и Клазомен. Обычно на этих саркофагах по кремовому тону фона наносились темные силуэты фигур, дополнительно подцвеченные белой краской. На некоторых из них наряду с декоративными фризами на внутренней стороне крышек помещались композиции повествовательного характера (состязания колесниц, сцены битв и так далее). Такова роспись саркофага из Британского музея, изображающая битву греков с варварами. Мастер стремится к созданию композиции, исполненной динамики, построенной на чередовании групп сражающихся. Разнообразятся и мотивы движения: здесь и споткнувшийся конь, и упавший раненый грек, и воин, схвативший под уздцы коня противника. Все же это скорее сумма пластически замкнутых эпизодов, на которые распадается повествовательный цикл композиции. Это не тот поток, пронизанный единым сурово-грозным ритмом, который мы видим, например, в гигантомахии скульптурного фриза сокровищницы сифнийцев в Дельфах, а некое подобие ожерелья, составленного из отдельных бус.
В собственно Греции в течение второй половины VI в. до н. э. живопись стремится ко все большему изяществу и благородной гармонии цвета. Так, выразительна по своему цветовому построению стела, изображающая Лисия, жреца Диониса, держащего в руке написанный черным цветом кубок и зеленую ветку. Большой живописной свободой отличается цветовое изображение на мраморной доске сидящего Энея — служителя Асклепия. Обращает внимание ясная спокойная звучность цветового аккорда: на красном фоне желтое пятно плаща. Последние росписи дают представление и о палитре живописцев второй половины VI в. до н. э., в которой применялись желтая, белая, черная, коричневая, синяя, красная и зеленая краски. Цвет сохранял свой локальный характер, что отнюдь не препятствовало точной и ясной гармоничности цветовых соотношений. Моделировка формы светотенью, видимо, не применялась. Проблема передачи освещения и изображения окружающей пейзажной или бытовой среды, как правило, не стояла перед живописцами и во второй половине VI в. до н. э. Изображение, однако, к концу века освобождалось от подчеркнуто плоскостного характера. Благодаря моделировке мускулатуры черными линиями внутри силуэта формы тела начинали приобретать большую пластическую объемность. Можно говорить и о первых попытках передать также общее физическое и духовное состояние образа героя. Такой способ изображения был стилистически аналогичен ранней краснофигурной вазовой росписи, возникшей примерно в эти же годы.
Представление о развитии живописи в последней трети VI в. до н. э. в Аттике дает пинака, посвященная, как гласит надпись, прекрасному Мегаклу. Сочетание лаконичной декоративности силуэта с острой жизненностью мотива движения, изящная точность контура, благородство пропорций, выразительный контраст динамики стройно-гибкого тела юного воина и устойчивости тяжелого круга щита свидетельствуют о том, что аттический живописец зрелой архаики уже обладал тем чувством красоты человека, которое характеризует и мастеров античного ваяния этого же времени. Очень выразительна цветовая гамма, в своем сдержанном лаконизме она носит скорее монументальный, чем узорчато-декоративный характер. Черный контур фигуры, коричневый тон тела с прописанной черными линиями мускулатурой несколько напоминают приемы краснофигурной вазописи. Черная одежда, белый щит и пурпуровый гребень шлема создают сдержанный цветовой аккорд.
Собственно говоря, сказанным почти исчерпывается то, что мы знаем о художественном языке живописи VI в. до н. э. Правда, мы можем расширить наше представление о применяемых живописцами композиционных приемах, прибегая к работам вазописцев, воспроизводящим произведения монументальной живописи или близким по стилю исполнения. Однако следует учитывать, что, хотя стилистически монументальная живопись и вазопись были близки друг другу, все же композиционные решения не могли быть аналогичными. Во-первых, мастер вазописи учитывал округлую форму сосуда, что сказывалось и на композиционном решении. Во-вторых, живописец располагал (особенно в росписи по дереву) более богатой палитрой, чем мастер вазовой росписи.
Любопытны и разные тенденции в применении цвета в вазописи и собственно живописи: изящный графизм чернофигурной вазописи зрелой архаики отличался большей скупостью в применении подцветки, чем в более ранний период, то есть со временем четче выявлялась специфика именно вазовой росписи. Развитие живописи, естественно, в основном шло в направлении усиления цветности решения. Свое значение имело и разное масштабное звучание образа: более миниатюрное в вазописи, более монументальное в настенных росписях и метопах. В целом живопись мастеров архаики лишь постепенно раскрывала свои специфические возможности, лишь постепенно зарождалось в ней чувство принципиального отличия от вазовой росписи и от полихромной расцветки скульптуры. Вместе с тем именно зарождение живописи в VII в. до н. э., ее становление и художественное совершенствование в VI в. до н. э. подготовили первый расцвет живописи V в. до н. э. Более того, аттические работы последней трети века говорят о формировании живописи как вида искусства, начинающего находить соответствующие эпохе свои классические решения.
Подготовлено по изданию:
Колпинский Ю. Д.Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. М., «Изобразительное искусство», 1977.
© Издательство «Изобразительное искусство». 1977