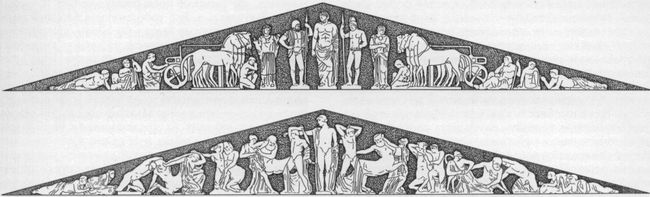87
Глава II
ИСКУССТВО РАННЕЙ И ЗРЕЛОЙ КЛАССИКИ
Ранняя и зрелая классика — V в. до н. э. — является эпохой наивысшего расцвета искусства греческого полиса. Большое значение для перехода культуры полиса к высшей стадии своей эволюции имели победа афинской рабовладельческой демократии и исход греко-персидских войн. Это обострило в эллинах сознание жизненной силы и могущества своего строя, его превосходства по сравнению с «непобедимой» азиатской деспотией. Интенсивный расцвет экономической, социальной, культурной жизни полисов, наступивший после перелома в ходе многолетней борьбы с персами, сыграл свою роль в формировании классического этапа в истории греческой культуры.
Не следует, конечно, идеализировать героику борьбы эллинов против персов. Это был сложный исторический процесс, сопровождавшийся внутригреческими спорами за гегемонию, за руководящую роль в этой борьбе и отпадением иных полисов от общего дела. Но не это, а первая победа над персами, одержанная афинянами при Марафоне (490 г. до н. э.), подвиг самопожертвования трехсот спартиотов у Фермопильского ущелья, героическое решение афинян покинуть на кораблях город, дабы не покориться персидскому царю Ксерксу, славная морская победа под Саламином и, наконец, победа объединенных сил греков при Платеях (479 г. до н. э.) определяют характер этой поистине народной борьбы союза небольших греческих городов-государств с могущественным, дотоле непобедимым противником.
И все же война с персами, так же, как и имевшая огромное значение для западных греков победа над карфагенянами в битве при Гимере в Сицилии (480 г. до н. э.), лишь ускорила переход к классике, может быть, усилила своеобразную героически-гражданственную тональность ее искусства. Главные силы, определившие переход к классике, лежали во внутренних тенденциях развития самих полисов. Поэтому уже в величавых храмах последней четверти VI в. до н. э., в раннем краснофигурном стиле вазописи конца VI в. до н. э., в скульптуре и живописи самого конца VI — начала V в. до н. э., то есть до победы под Саламином и при Платеях, стали проявляться первые ростки нового стилевого этапа в истории искусства греческого полиса. Перед рассмотрением искусства классики естественно мысленно обратиться к итогам эволюции художественной культуры архаики, попытаться, опираясь на ее достижения, ответить на вопрос о соотношении ценностей, созданных искусством обеих эпох, на меру их вклада в неравномерно-противоречивый процесс эстетического познания человеком мира, развития его способности образно-правдиво отобразить и оценить действительность.
Неповторимая ценность завоеваний архаики в области круглой пластики состояла не только в сочетании монументальной обобщенности и непосредственной жизненности пластической формы. Целостность этих двух сторон образа человека в наивысшей степени была выражена именно в классике. Само по себе сочетание орнаментального и пластического начал в скульптурной форме архаики чарует, однако наслаждение особенно глубокой и сложной при всей ее внешней простоте гармонией классики носит более эстетически существенный характер. Вместе с тем в архаике есть одно качество, которое действует на нас с особой интенсивностью, быть может, потому, что оно выражено еще жестко прямолинейно.
Греческая полисная художественная культура в целом является одним из тех ранних этапов истории культуры, когда образ человека впервые получает огромное, так сказать, «центростремительное» значение. В этой культуре человек (или бог, воплощенный в человеческой телесности) выступает как кульминационная ценность мира. Он представляется прекраснейшей, довлеющей над хаосом пластической целостностью, потому-то и его образ приобретает особо конденсированный характер, а внимание зрителя концентрируется на кристаллической завершенности пластического образа человека.
В философской лирике, позже в трагедии проблема двойственности человека, зависящего от богов, рока, но свободно, по законам человеческой совести и разума избирающего свой путь, находила конечные выводы в своей целостности, проводя человека подчас через мучительные перипетии к очищению — катарсису. В статуарной пластике зрелой архаики это особое, одновременно довлеющее себе и господствующее над ближайшей средой видение человека давалось прямо и целостно (кстати, тело куроса могло быть и телом бога, героя, и телом атлета-победителя, и свершившего свой жизненный путь человека). Так, героический
88
трагизм античной драмы и героический оптимизм статуарной пластики контрастно дополняли друг друга. Не теряя своей универсальности, обретенной уже в архаике, образ человека в эпоху классики решительно выигрывал в пластической жизненности (достаточно сравнить курос с острова Мелос с «Посейдоном» или «Богиню с зайцем» с «Никой» Пеония). Человек в статуях либо действует («Дискобол» Мирона), либо завершает свое действие («Бегунья»), либо воплощает в своем образе способность и готовность к героическому действию («Дорифор» Поликлета). В любом случае статуя перестает быть изображением стоящей или шагнувшей и остановившейся фигуры. Естественно, отдельные статуи, обретя способность к действию, открывают в статуарной пластике классики и путь к еще более реальному изображению объединенной общим действием группы. Это вводит понятие конфликтной ситуации, разрешаемой в гармонически целостной композиции. Чтобы оценить этот огромный принципиальный шаг вперед, проделанный классикой, достаточно сравнить статуи «Клеобиса и Битона» Полимеда Аргосского с «Тираноубийцами» Крития и Несиота, «Афину и Марсия» Мирона со статуэткой геометрического стиля "Герой и кентавр".
Завоевания классики, ее большая зрелость по сравнению с архаикой бесспорньь/Вместе с тем, хотя классика не только сохраняет, но гуманизирует идею господства человека над окружающим миром, само чувство противостояния миру, того грандиозного волевого усилия, с которым был сформирован архаический образ, здесь несколько растворено в менее «примитивном», но и менее обнаженном в своей интенсивности чувстве жизни — действии. Как бы то ни было, но эта эстетическая потеря была «перекрыта» в классике большим жизненным богатством содержания образов, а главное, достижением того равновесия обобщенно универсального и как бы непосредственно жизненного, возвышенного и естественного начал при воплощении самых общих свойств бытия человека. В дальнейшем античное искусство уже никогда не подымалось до таких высот.
Гармонически контрастное содружество искусств, величавый их синтез — зодчества, изобразительных искусств, драмы и художественных ремесел на основе утверждения величия и этико-эстетической ценности образа человека получили в V в. до н. э. необычайно высокое выражение. Принцип органической связи личной и общественной сторон жизни, с особой силой выраженный в мировоззрении той эпохи, нашел свое совершенное выражение в искусстве полиса поры его наивысшего расцвета.
В эпоху классики происходит своеобразное слияние органической, как бы живой непосредственности творчества с ясной осознанностью общих стилевых принципов, четкой художественной целостности. При обращении к памятникам искусства классики поражает соразмерность, гармоническая целостность искусства, единство его художественного языка. Не случайно в эту эпоху разум эллинов ищет и формулирует закономерности, лежащие в основе создания правильного — прекрасного здания, статуи, драмы, песни. Понятие канона (меры), анализ эуритмии, симметрии как соразмерности и ясной построенности целого особенно глубоко разрабатываются именно в это время. И это не отвлеченные от живой практики философско-эстетические конструкции, не свод ремесленных рецептов жестких догм, сковывающих творчество, — это стремление уразуметь, познать меру, лежащую в основе живого творческого процесса, понять внутреннюю логику живого единства искусства своего времени. Поэтому об этих понятиях рассуждали не только философы, но и сами мастера искусства — живописцы, зодчие, ваятели (трактат Поликлета о каноне).
Вместе с тем в ходе исторического развития раннее античное рабовладение и выражающая его полисная форма устройства общества достигли своей кульминации, и наступил неизбежный этап кризиса и самого строя и его культуры. Эпоха классики оказывалась на завершающей своей стадии, временем первых проявлений кризиса тех мировоззренческих, жизненно-бытовых и собственно эстетических основ, на которых зиждилась великая целостность ее искусства. Очень скоро в недрах художественной культуры зрелой классики (последние десятилетия V в. до н. э.), казалось, достигшей своего совершенства и художественной устойчивости системы проявились первые признаки кризиса. Эпоха поздней классики является временем обнажения противоречий полисной культуры и ее искусства, поисков новых решений как в рамках этой культуры, так и в попытках выхода за ее пределы.
Анализу своеобразия вклада в мировую культуру каждого из этапов эволюции классического искусства — от его зарождения до завершения в последней четверти IV в. до н. э. — посвящены следующие главы данного труда.
АРХИТЕКТУРА
Особое значение в становлении зодчества ранней и зрелой классики имела группа храмов, сооруженных в течение V в. до н. э. в Агридженто. Могучие пропорции храмов, свободная группировка их объемов создают архитектурный ансамбль необычайной красоты. Большинство храмов было расположено на гребне длинного невысокого холма, четко вырисовываясь на фоне неба. Самый крупный из них, грандиозный храм Зевса с его огромными теламонами, или атлантами, дополнявшими колоннаду, был расположен на склоне, почти у подножия холма и как бы поддерживал своей мощной конструкцией храмы, вознесенные на гребень. Уже в расположении храмов Агридженто на холме выражается особое чувство связи храма с окружающей природой, с пейзажем, столь характерное для ряда раннеклассовых культур. У греков эта связь, носящая характер созвучия и контраста одновременно, осуществлялась с особо точным пониманием задачи. Хотя в период ранней классики (особенно в Сицилии) и продолжали сооружаться храмы, связанные с традицией архаики (например, растянутый в пропорциях и чрезмерно грузный храм «Е» в Селинунте), постепенно утверждает себя величаво гармоническая система архитектурных пропорций.
Храм Геры II в Пестуме был построен между 475 и 460 гг. до н. э. Мастер стремился подчеркнуть в нем ощущение спокойной мощи. Невысокий стереобат
89
поддерживает мощное напряжение колонн. Их резко выраженный энтазис усиливает ощущение той энергии, с которой они поддерживают чрезмерно тяжелое по сравнению с высотой колонны перекрытие. Именно наличие энтазиса, как бы передающего напряжение мышц колонн, восстанавливая их равновесие, создает строгую, но безукоризненную гармоничность целого. Этому же служит и большая, чем обычно, частота каннелюр, усиливающая вертикальную устремленность колоннады.
Любопытно, что издали на фоне большой равнины, окаймленной далекой грядой гор, грандиозность храма не ощущается. Но с ближней точки зрения колонны, соотнесенные к масштабам человека, кажутся особенно мощными. Напряженная игра света и тени от далеко выступающих абак (верхних частей капители), от энергичной моделировки деталей перекрытия усиливает это впечатление. В целом постепенное нарастание ощущения величия храма по мере приближения к нему создает строго и точно рассчитанный эффект. Следует учесть, что храм Геры II воздвигался в зоне святилищ, где уже стояли другие храмы, в частности архаический храм, также посвященный Гере. Храм был воздвигнут рядом с так называемой Базиликой, и вместе они образовывали мощный пластический узел ансамбля, противостоящего шири окружающего его равнинного пейзажа. Единство храмов обеспечивалось уже единством ордера, однако они не сливались в единую массу, а как бы дополняли друг друга. Более низкой и более компактной Базилике (соотношение колонн 9:18) противостоит высокий и удлиненный в своих пропорциях (соотношение колонн 6:14) храм Геры II1. Сознательное стремление мастера классики к более свободному равновесию, избежанию повтора — зеркальности уже достаточно явственно сказывается в решении строителя храма при выборе местоположения. В данном случае он отталкивался от уже существующего ансамбля, и это несколько ограничивало планировочные возможности зодчего.
Сложные задачи введения храма в постепенно формирующийся архитектурный ансамбль возникли и у Либона, строителя храма Зевса в Олимпии (между 468 и 456 гг. до н. э.). Следует подчеркнуть, что этот храм представлял собой одно из совершеннейших творений ордерной архитектуры V в. до н. э. Его отличали ясная гармония пропорций (соотношение колонн 6:13), точно найденная мера высоты колонн и груза антаблемента, безукоризненная четкость и чистота форм и силуэтов. Храм был воздвигнут из очень твердого ракушечника, что давало возможность добиться почти чеканной точности исполнения деталей; праздничная раскраска, изобилие скульптур придавали ему особую торжественность и величие.
Храм занимал господствующее положение в расположенном на равнине святилище Зевса в Олимпии — месте проведения всеэллинских Олимпийских игр. Большой стадион, низко распластанный по земле, стоящий в стороне от храма и совершенно иной по своему архитектурному типу, не мог способствовать достижению контрастного эффекта сопоставления двух типологически близких зданий. Видимо, пространственнопластический эффект в этом ансамбле строился на решительном господстве величавого храма над сложным конгломератом целого. Отсюда в отличие от Пестума особо высокая субструкция и стереобат, которые, дополнительно выделяя храм, обеспечивали его господствующее положение в ансамбле.
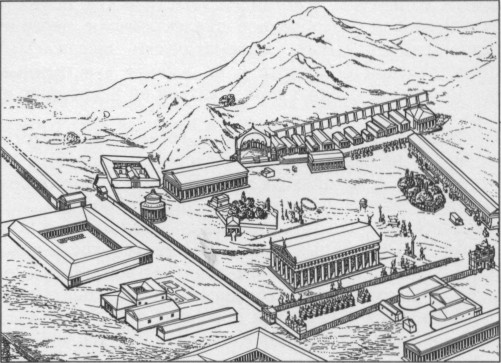
Святилище в Олимпии. Реконструкция
Храм Зевса в Олимпии знаменовал собой переход от ранней к высокой классике. Именно в этот период развития зодчества наступает и время утверждения наиболее органических форм синтеза архитектуры и монументального изобразительного искусства, достижения глубокого образного созвучия ваяния и зодчества. В период классики мастера скульптуры не только в совершенстве овладевают задачей введения скульптур в предназначенные им архитектурной конструкцией зоны, не только находят наиболее совершенные масштабы фигур, композиционные решения, соответствующие этой задаче. Полностью выявляя специфические возможности своего языка, скульптура участвует в создании ясной сочлененности целостного синтеза, не растворяясь в архитектурном декоре. Основой синтеза в классике являлась достигшая своего высокого гармонического совершенства храмовая архитектура. Интенсивное развитие ее форм, системы пропорции, масштабов были обусловлены углублением понимания эстетической природы зодчества и в особенности овладением пластическими возможностями ее художественного языка.
Стремление греков к выявлению в архитектуре и в скульптуре неких общих законов пропорции и гармонии, стремление к разумной красоте и ясности пронизывали все их художественное мышление, начиная со зрелой архаики и кончая эпохой классики. Своеобразная математизация, желание понять при этом именно образные — художественно гармоничные, а не сухо рациональные основы архитектуры находят свое особенно ясное выражение в рассуждениях о зодчестве (но и не только о нем) мыслителей древности. Поскольку преимущественно на опыте классического зодчества и всей классической стилевой системы с ее
1 Кстати, следует заметить, что обращение к еще более стройным пропорциям колонн привело бы, учитывая низкие, с резко подчеркнутым эхином колонны Базилики, к переходу от контрастного равновесия к простому несовпадению масштабов двух зданий.
90
ясным единством всех видов пластических искусств складывалось своеобразное диалектическое переплетение рациональных, математически выражаемых представлений о красоте с их живым чувственным воплощением, следует остановиться на некоторых из этих понятий.
Пропорция, порядок и ритм в греческом искусстве являются не заданной извне системой числовых соотношений, а находимых каждый раз в процессе создания произведения искусства соразмерностью, гармоничностью, осмысленностью, лежащих в основе бытия, и выраженных в разумной деятельности человека. В этих и подобных им понятиях воплощены несколько умозрительно, точнее сказать созерцательно, представления о глубоких образных этико-эстетических свойствах тех законов Космоса и Разума, которые содержались и в структуре греческого храма и любого материально-пластического создания творящей деятельности человеческого духа.
Таков, например, термин «эуритмия».. Первоначальное понятие эуритмии было разработано риторами и связано с речью, ее метрической и более сложной ритмической последовательностью развития. В архитектуре эуритмия, как говорил Витрувий1, есть «особое качество живого, зрительного восприятия». Глаз ценит эуритмию в архитектурном произведении при его последовательном рассмотрении во времени и пространстве подобно тому, как ухо оценивает чередующуюся мерность, численность художественно организованной прозаической речи древних писателей и ораторов. Кроме того, Витрувий связывает с эуритмией и так называемый комодус аспектус, то есть удобно построенный, гармонически приятный аспект, зримость целостной архитектурной картины. Витрувий в данном случае подчеркивает зрительно-эмоциональную сторону художественного восприятия образа. Здесь понятие эуритмии близко античному понятию симметрии, то есть соразмерности. Заметим, что понятие симметрии в обычном смысле слова как симметрическое зеркальное повторение правой и левой стороны чего-то с точки зрения грека является лишь частным, наиболее примитивным видом симметрии. Такой элементарный вид симметрии являлся господствующим в монументально-декоративном искусстве только в эпоху архаики. Его отзвуком и является зеркальносимметрическое расположение фигур, сражающихся направо и налево от центральной оси на западном фронтоне храма Афины Афайи на острове Эгина.
В изобразительном искусстве понятие эуритмии близко совпадает с нашим понятием ритма. В отличие от сферы чисто пластически созерцаемой симметрии она построена на развивающемся во времени и пространстве упорядоченном слуховом или зрительном восприятии образа.
Поскольку для грека понятие симметрии определяет не зеркальное повторение чего-то, а именно мерность соотношения друг к другу чисел или зримых форм, то наличие симметрии (буквальный перевод этого термина означает «сомерность») определяется присутствием кратных отношений частей. Симметричны меры или предметы, кратно относящиеся друг к другу, а не просто повторяющие друг друга. Так, Аристотель объясняет, что симметричны не только цифры 1 и 2, 2 и 4, но и мера 24 и 16. Она симметрична, ибо оба числа равно имеют 8 как наибольший общий модуль: трижды повторенный в одной цифре и дважды повторенный в другой.
Но симметрия является не только определенной, геометрически или математически выраженной системой гармонических соотношений форм и явлений. Симметрия в более широком смысле выражает принцип разумности, гармоничности в противовес неопределенности и хаосу. Здесь подчеркивается уже не столько количественная числовая сторона симметрии, сколько ее глубинные качественные свойства. Поэтому Платон и говорил: «Мера и симметрия везде, и она есть добродетель и красота». И, действительно, в каком-то смысле для древнего грека мерность, симметрия, эуритмия — это воплощение неких общих принципов. В несколько перевернутом виде эта идея содержится и в натурфилософии пифагорейцев. Как мы знаем, для них сама природа как обретший организованность космос есть не что иное, как мимезис, то есть подражание гармоническим числовым системам, предпосылаемым нашему материальному миру. В свою очередь само искусство в какой-то мере — мимезис природы, то есть подражание природе не только в смысле имитации ее видимой оболочки, ее частных явлений, но в смысле раскрытия ее гармонической построенности. В статуе мы, конечно, узнаем человека: юношу, старца, женщину. Однако статуя является мимезисом и в том смысле, что она, следуя природе, выражает скрытую в ней гармонию мерных числовых соотношений, выражает как бы присущие природе или космосу такие качества, как разумность, прекрасная построенность и так далее.
Поэтому статуя не только воспроизводит видимую оболочку образа человека, но и воплощенные в нем как в высшем продукте природы разумную мерность, гармоничность, красоту и стройность мира. Архитектура выражает этот же принцип, отвлекаясь от строения человеческого тела, исходя из «телесной» природы здания и из его конструкции.
Конечно, исходная посылка пифагорейцев идеалистична (хотя не в той мере и форме, какая свойственна философскому идеализму нового времени. Исходная идея здесь чувственна и неотделима от ее материальной ипостаси). Но само стремление передать в искусстве типические закономерности чувственно созерцаемого мира, пластически раскрыть гармонически разумное начало, присущее человеческому коллективу (или долженствующее в нем присутствовать), безусловно, является эстетически эффективным и в своей основе глубоко реалистическим.
Действительно, если мир для зарождающегося античного идеализма — отражение идей или предшествующей ему гармонии, то для античных материалистов материальный мир вечен. Однако и в таком случае он выражается в своей космической сущности наиболее совершенной мерой через гармонию, соразмерность, симметрию и так далее. Высшим воплощением этих качеств и явились человек, его тело, дух, созданный
1 Витрувий был теоретиком зодчества римского времени, однако в вопросах пропорций в ордерной архитектуре он явно опирался на опыт греков.
91
человекмо город-государство, образно раскрываемые в храме, скульптуре, драме, поэзии, а также в музыке. Сами художники могли в большей или меньшей мере верить в буквальную истину мифов, в космогонические теории гесиодовского или фалесовского типа. Но они обращались к реальному миру как к материальной цельности космоса, к человеку и к делу его рук и разума как к высшему, чувственно зримому воплощению бытия. При этом они были убеждены, что найденные принципы меры, симметрии и были мимезисом главного в бытии. Сообразно с этим создавались творения, раскрывающие разум, меру, симметрию, заложенные в природе мира, а следовательно, и зданий (как части мира, обработанные человеком, как нового предмета, введенного в мир). Вместе с тем такое творение раскрывало зримо способность человека подчинять себе мир, познавать его, самому становиться сознательным носителем мерности, симметричности, разумности мира. Человек в творениях зодчества и ваяния утверждал свою причастность к добродетели и красоте. Обращаясь к иным оттенкам понятия симметрии особенно в связи со строительно-архитектурным делом, можно заметить, что она приобретает еще один аспект. Симметрия наличествует и в соответствии всех элементов, частей данного произведения архитектуры, взятых в отдельности, и в их отношении к целому, как к сумме этих отдельных частей, например колонна в отношении к колоннаде и перекрытию. Поэтому части выступают по отношению друг к другу в некотором соотношении и в некотором соответствии (консенсус). Вместе с тем они выступают в некоторой связи и по отношению к целому и общему аспекту произведения — в нашем случае пластическая целостность храма, где каждая часть — как бы и особый отзвук этого целого. В этом смысле в колонне и метопе-триглифе (как в исходном модуле дорического фриза) мы видим респонсус, то есть ответ, отзвук, соответствие структуре храма как целого.
Таким образом, симметрия предполагает строго и художественно продуманную организацию каждого частного элемента архитектурной конструкции (например, триглифа) по отношению к другому (например, метопе), отдельно взятому частному элементу и вместе с тем их соподчинение некоему высшему, единому, целостному впечатлению — храма в целом.
С понятиями эуритмии и симметрии тесно связаны понятия ритма и метра, широко применяемые и в зодчестве и во всех остальных видах искусства. Это показывает, насколько греки, естественно видя различные предназначения зодчества, ваяния, стиха, остро ощущали художественную общность их природы, их связь с некими общими законами бытия и сознания.
Само понятие ритма было неотделимо от понятия мерности — чередования чисел. Точнее говоря, греки для этого использовали два понятия — «метрон» и собственно «ритмос», причем первоначально эти понятия были разработаны в сфере стихосложения и танца. В этом смысле метрон — это метрика, чередуемость слогов. Ритм включает в себя понятие метрона, но он может существовать и вне стиха и содержаться в самой реальности. В этом смысле ритмом может обладать любое мерно повторенное движение: плеск волн, скок коня, биение крыльев летящей птицы. С точки зрения грека в этих явлениях выражаются общая мерность, разумная закономерность бытия в целом. Улавливая, выявляя ее, строилась система симметрии храма. В таком смысле это качество выявляется и в мерной речи-стихе. Она пронизывает и жизнь самого тела человека и в реальности, и в скульптуре, и в живописи. Она обнаруживает себя и при целесообразном устроении бытовых, утилитарных вещей, она живет и в самом шаге человека, преображаемого в танец. Как в прозе, так и в стихе могут быть отдельные скрытые или открытые повторы более сложных групп метров. Если они улавливаются, то с точки зрения грека это и есть эуметрос, или шире — эуритмос. Поэтому для грека эуритмия — высшая форма закономерности движения в пространстве и времени, то, что мы, собственно, понимаем под ритмом. Любопытно, что ритмический, или метрический, как мы сказали бы, повтор может применяться и в пластических искусствах по принципу, очень близкому стихосложению с его долгими и краткими слогами, сочетаемыми в определенном порядке. Так, например, критский ритм в стихосложении — длинный и краткий — может найти свое выражение в группировке фигур, в рельефном фризе или в надгробной стеле, состоящей из сидящей и стоящей фигур.
Эти «чувственно математические» понятия участвовали и в формировании художественного образа. При этом возникали новые понятия, новые категории, такие, например, как «канон», «схемата» и другие. В целом при создании живого образа человека эти понятия смягчались, гибко видоизменялись, тем самым эти универсально действующие во всех видах искусства закономерности выступали в качестве руководящей нити, а не жесткой нормы.
Во всяком случае в облике античных храмов VI—V вв. до н. э. мы ясно ощущаем ту художественную гармонию порядка и свободы, которая делает их живыми творениями искусства. Более того, думается, что кристаллизации этих норм и понятий живое развитие реального зодчества способствовало не меньше, чем эволюция умозрительных расчетов.
В связи с тем что особенно глубокое единство архитектуры и монументального изобразительного искусства, особая гармония целого была достигнута в период зрелой классики представляется целесообразным в дальнейшем рассматривать зодчество этого времени одновременно с изобразительным искусством.
СКУЛЬПТУРА
В развитии скульптуры V в. до н. э. довольно отчетливо выделяются периоды так называемой ранней классики (примерно до 60-х годов) и высокой или зрелой классики (примерно с середины века). Последняя четверть V в. до н. э. хотя и относится в главных своих проявлениях еще к зрелой классике, но все же в скульптуре (не говоря уже о вазописи) чувствуется зарождение новых тенденций, которые затем приведут в своем дальнейшем развитии к поздней классике. Ее начало приходится на самый конец V в. до н. э.
Для формирования скульптуры классики представляет интерес эволюция следующих основных жанров или
92
видов пластики: во-первых, развитие культовой или мемориальной статуи и статуарной группы, а во-вторых, связанных с архитектурой многофигурных композиций. Первая линия дает представление об эволюции образа совершенного человека в искусстве, вторая — решает одну из существенных проблем — проблему синтетического единства скульптуры с монументальной архитектурой. Как в том, так и в другом направлении развития скульптуры ранней классики решались некоторые общие эстетические задачи, создавалось новое по сравнению с архаикой понимание образа человека или группы людей, связанных единством действия; — человеческого коллектива. Искусство меняло свой характер в сравнении с архаикой, хотя и сохраняло, видоизменяя его, чувство архитектонической конструктивной целостности образа. Статуарная скульптура ранней классики продолжает разрабатывать сюжетные мотивы, характерные и для архаики: прямо стоящая обнаженная фигура юноши или одетая женская фигура. Как и раньше, это были культовые изображения божества или мемориальные статуи, посвященные победителям на олимпийских состязаниях, или надгробия ; все чаще появляется портрет чем-либо знаменитого гражданина. Однако образное содержание этих статуй начинает существенно видоизменяться.
Постепенно меняется архаическая концепция соотношения покоя и движения. Акцент переносится с торжественно-строгого предстояния на мотив постановки фигуры, насыщенной большей подвижностью.
Мастер классики в целом стремился воплотить поэтическую красоту движений одухотворенного человеческого тела, добиваясь как ритмической и пластической поэтической выразительности, так и непосредственной его жизненной убедительности и правдивости.
Уже для ранней классики проблема статуарного изображения человека не в некоем постоянном пребывании, но в состоянии действия или способности к нему являлась существенной. Вместе с тем по-прежнему большое значение имело стремление усилить конкретность образа, реалистически жизненную убедительность изображения, а также углубить его духовную содержательность, этическую значимость. Поэтому искусство классики разрабатывало не только проблему сочетания архитектонической построенности пластического образа с убедительной передачей реального движения, действия, поступка героя, но продолжало разрабатывать и проблему спокойно стоящей статуи, демонстрирующей гармоническое равновесие живого человеческого тела. При этом покой фигуры мыслился не как устойчиво-напряженный покой шагнувшего и остановившегося куроса, а как своеобразное подвижное равновесие часто противоборствующего напряжения в жизни человеческого тела. Покой как частный случай движения, как гармоническое равновесие противоположных усилий, как свобода от внутренней застылой неподвижности становится эстетическим содержанием мотива неподвижно стоящей фигуры.
Новая концепция статуи наметилась уже в конце архаики. В начале архаического искусства способность человеческого тела к движению скорее символизировалась, чем жизненно-образно воплощалась. Не нарушалась общая незыблемая устойчивость статуи и введением мотива полусогнутой и выдвинутой вперед руки. В таком понимании образа был свой смысл, и это решение по-своему было глубоко органичным. Но в таких статуях, стоящих на грани архаики и классики, как надгробная статуя Кройса или прекрасный в своей упругой жизненной силе «Эфеб» из Агридженто, замечательная завершающая серия акропольских кор рубежа VI—V вв. до н. э., мы явно ощущаем зарождение нового понимания этой проблемы.
Мастера ранней классики овладевают реалистически правдивой передачей движения и взаимодействия двух и более героев, связанных единством действия. Последняя линия исканий имела особое значение. Эхо были переход к сюжетной скульптуре, зарождение понятия групповой композиции как единого сложного драматического целого.
Поэтому вполне естественно, что в связи с новым пониманием сюжетной ситуации групповая композиция претерпевает глубокие изменения. До этого времени она была уже достаточно разработана в рельефе и вазописи, но еще не проторила себе дорогу к круглой скульптуре. Конечно, групповая композиция ранее существовала и в монументальной скульптуре, но преимущественно в синтетически связанных с архитектурой формах фронтона.
Так, во второй половине VI в. до н. э. в «Гигантомахии» на рельефе сокровищницы сифнийцев в Дельфах осуществляется принципиальный шаг вперед. Драматический ход битвы является главной образно-выразительной основой этого произведения. Однако нельзя не признать, что драматическая конкретность в изображении сражения еще находилась в некотором конфликте с собственно ритмическими композиционными принципами построения образа. Преодоление этой двойственности, слияние воедино ритмической цельности композиции с ее образно-содержательным смыслом, более конкретная передача события постепенно становились эстетической задачей искусства ранней и зрелой классики.
Хотя искусство ранней классики и являлось переходным к искусству зрелой классики, в нем вместе с тем можно угадать черты специфического своеобразия, хотя они и менее существенны, чем те, которые отличают архаическое искусство от собственно классического. Едва ли не наиболее характерным можно считать то, что ранняя классика угловато, но остро подчеркивала конкретность мотива движения. Новая система художественного языка ранней классики, которая преодолела утонченную условную выразительность художественного языка архаики, на первых порах поражала своей прямолинейностью, жесткостью и наивностью в передаче натуры. Этот процесс постепенной трансформации самого понимания гармонии — соотношения в ней отвлеченного и конкретно чувственного и связанный с этим временный «прорыв» к введению непосредственно жизненного — зарождается уже на рубеже VI—V вв. до н. э. Так, в статуе Аристодика явственно ощущается почти непосредственно жизненная постановка фигуры, особенно в трехчетвертном повороте по сравнению с постановкой фигуры так называемого Аполлона Странгфорда. В первой половине V в. до н. э. эта тенденция проявлялась еще явственней. Передача определенного
93
действия или преходящего состояния разрушала законченную гармонию зрелой архаической статуи. Это не всегда приводило на первых порах к обретению новой, более подвижной гармонии. Так, в статуе юного Гиакинфа (Ленинград, Эрмитаж), дошедшей в римской копии (70-е гг. V в. до н. э.), очень реально изображено, как он следит за полетом диска, брошенного Аполлоном. При этом мотив поворота головы вверх и в сторону, смещение тела по отношению к оси симметрии носят еще несколько наивный характер. При созерцании статуи возникает ощущение, что движение как бы описано, что оно носит сюжетно-повествовательный характер. Это именно тот случай, когда былая пластическая гармония разрушена, а новая еще не сложилась. Нечто подобное можно было наблюдать на ранних стадиях перехода в вазописи от геометрики к архаике.
Однако это «снижение» мастерства, точнее распад старой художественной системы, старой формы гармонии, открывало дорогу новым исканиям, новому этапу в эволюции искусства, постепенному созданию новой гармонии и целостности.
Более жизненная передача движения часто превалировала над задачами гармонического обобщения и даже породила направление, отличавшееся особенной последовательностью в осуществлении этих принципов. Заметим, что те же черты свойственны и ранней классической литературе. Достаточно вспомнить трагедию Эсхила «Семеро против Фив», сочетающую несколько тяжеловесную монументальность композиции с потрясающим по своему жесткому реализму детальным описанием разгрома и грабежа взятого приступом города.
Вытекающая из указанных принципов некоторая жанризация образа не вела, однако, мастеров большой скульптуры к собственно интимной трактовке бытовых тем. Скульптуры по-прежнему посвящались богам, героям, мифам или событиям значительным. При этом сказанное не означает, что проблема гармонического равновесия полностью выпала из поля зрения мастеров ранней классики. Все же, преодолевая принцип гармоничности архаического типа, они часто противопоставляли ему именно принцип нарушенного равновесия, овладения реальным миром движений. Таковы «Гиакинф», позже «Бегунья» или некоторые росписи на вазах того времени.
Однако тяга к героической монументальности не могла полностью исчезнуть. Все время шел поиск новых, иных, чем раньше, решений этой задачи. Особенно ярко это проявилось в «Дельфийском возничем» — одном из немногих сохранившихся бронзовых подлинников. В этом памятнике ощутима свойственная ранней классике реальная конкретность мотива, вплоть до введения натуральных деталей, чуждых подчеркнутой обобщенности архаической формы.
Чтобы оценить характер памятника в целом, следует напомнить, что статуя входила в довольно сложную композицию, на которой был изображен возничий, стоящий на колеснице и правящий квадригой (четверкой лошадей). Эта статуя являлась идеальным портретом победителя на состязаниях. Характерно уже само стремление мастера передать конкретного героя именно как возничего.
Представленный со строгой монументальностью, он стоит неподвижно, прямо устремив вдаль взгляд. Возничий недвижим, но и устремлен вперед, он вовлечен в некоторое конкретизованное действие — управление конями. Это делает его образ иным, чем образ архаического куроса. (Изображение колесницы, которую влекли Клеобис и Битон, не могло бы возникнуть в уме Полимеда Аргосского.)
Следует при этом признать, что вся группа, выполненная примерно в натуральную величину в трехмерном объеме, вероятно, производила, с точки зрения ее ясной обозримости, несколько громоздкое впечатление. Однако при всем том каждое тело обладало своей, чисто эллинской пластической законченностью. Объем фигуры поражает своей обобщенностью. Если в храме атлант как бы подменял или дополнял колонну, выявляя скрытую в ней перекличку с человеческим телом, то и здесь мастер создает изолированную фигуру, живущую отчасти по архитектоническим законам напряженно упругой колонны. Статуя возничего в этом смысле дает нам наглядное представление о том, почему греки отождествляли дорическую колонну с образом мужа.
От статуи веет суровым величием и торжественной статикой. И все же голова дана в сдержанном повороте, руки протянуты вперед, держа остатки металлических вожжей. Мастер стремится почти механически сочетать несколько жесткую монументальную обобщенность пластической формы в целом с подчеркнуто натуральными деталями. Таковы вздувшиеся вены на ступнях, натурально переданные ногти, пушок на висках.
Казалось бы, эти детали должны были вести к снижению художественной цельности образа. Однако дух особой энергии, прямолинейной последовательности в решении любой детали этого бронзового подлинника V в. до н. э. придает образу ощущение целостной, необычайно интенсивной художественной жизни. Если рассматривать общую композицию, отвлекаясь от деталей, то следует отметить в ней оттенок более конкретного состояния бытия статуи, чем в архаике. В статуе нет сделанного и остановленного навечно шага. С какой-то особой конкретной достоверностью ступни, несколько отошедшие от параллельной постановки, крепко упираются в днище колесницы, а упругая шея в живом напряжении держит на себе исполненную скрытой волевой энергии голову. Необходимо подчеркнуть выразительную полихромию статуи, которая усиливала жизненность впечатления. Черная повязка, туго охватывающая упругий объем волос, золотые губы, выделяющиеся на фоне бронзы, эмалево-белые белки глаз, темный блеск зрачков дифференцировали форму, придавали особую напряженную, героическую жизненную энергию статуе. Но это не вело к натуральности впечатления. Так, и на этом примере можно убедиться, что всякое большое искусство всегда точно и глубоко чувствовало особый художественный характер правдивости создаваемого мастером образа.
Если в «Дельфийском возничем» ярко представлено стремление к торжественно-сдержанной трактовке образа, то в торсе юноши (фрагмент скульптурной группы) аттической работы, возможно, самого конца
94
VI в. до н. э. с особой силой передан образ, исполненный поэтической светло-ликующей радости бытия. Свободная непринужденность жеста поднятой правой руки, подвижная пульсация мышц тела, легкая сияющая мгла светотени чаруют и современного зрителя. Необычайно остро сопоставлены крепкие и широкие объемы плеча и невесомая легкость касания к нему пальцев руки спутника юноши (не дошедшего до нас), образующего с ним общую группу. Эта группа подготавливает, видимо, первые раннеклассические решения парной группы.
Стремление в отдельной статуе передать подчеркнутую реальность действия прослеживается достаточно четко во всей эволюции искусства ранней классики. Такова статуэтка кифареда (Ленинград, Эрмитаж), поражающая внутренней монументальностью форм и своеобразной замкнутостью композиции. Эти качества присущи и «Мальчику, вынимающему занозу» (римская копия). Казалось бы, жанровая по своему мотиву статуя была посвящена событию, имеющему и общественный и этический смысл. Она изображала спартанского мальчика — победителя в беге, которому во время состязания колючка акации пронзила ступню. Как положено было истинному спартанцу, мальчик превозмог боль и победно закончил бег. Драматизм события, таким образом, оказался вне поля зрения мастера. В крепко сколоченной композиции, в сосредоточенности и исчерпанности мотива движения внутри самой фигуры передано ощущение монументальной собранности, замкнутости образа. Достаточно сравнить данную статую с аналогичной по сюжету известной эллинистической статуей, чтобы уловить это свойство мастера ранней классики. В эллинистической фигуре с определенным внешним живописным эффектом передан прежде всего именно жанровый, случайный, частный аспект в трактовке фабулы действия.
Любопытно отметить деталь: при жизненной точности передачи детского тела мастер ранней классики изображает склоненные к ноге голову и лицо мальчика, не нарушая еще архаически трактованную прическу. Его длинные локоны не свисают, а плотно прилегают к голове, словно его голова прямо посажена на шее. В какой-то мере это отзвук архаической устойчивости изобразительных форм, их неподверженности частному мотиву движения. С другой стороны, в этом можно видеть желание сохранить обозримой благородную красоту форм человеческого лица. Следует заметить, что скульптор еще не может добиться той слитности гармонического и естественно жизненного, которую обретают мастера высокой классики. Следующий шаг в решении важной задачи передачи живого движения при уравновешенной цельности и устойчивости композиции дается в «Бегунье» (сохранилась римская копия с бронзового оригинала второй четверти V в. до н. э.). Лаконская девушка изображена в коротком, облегающем крепкое юное тело хитоне. Волнистые линии складок хитона соответственно стилю времени еще прилегают к телу. (В зрелой классике то легко-свободные, то объемно-весомые складки живут особой жизнью, свободно связанной с жизнью тела и его движения.) Девушка изображена в момент завершения бега. Ее шаг замедляется, полураскрытые руки как бы дополнительно останавливают исчерпывающую себя устремленность вперед. Статуя дает образ движения и сохраняет любимую классикой устойчивую его завершенность. «Бегунья» — это статуя, и она должна обладать присущей ей способностью при всей живости движения устойчиво пребывать перед нами. В этом смысле она уже очень близка аналогичным решениям высокой пластики, в чем-то предвосхищает решение подобной темы движения в «Нике» Пеония.
Особое место в искусстве ранней классики занимает алтарная композиция «Рождение Афродиты» (так называемый «Трон Людовизи»), Она состоит из центрального и двух боковых рельефов, образующих своеобразное расчлененное единство. Простота и ясность, поэтическая жизненность движения, правдивость взаимосвязи объединенных общим действием фигур центрального рельефа существенно отличают эту композицию, несмотря на утонченную декоративность целого и моменты архаизма в трактовке деталей формы, от архаических предшественников.
На центральном рельефе две Оры, упруго склонившись, поддерживают восстающую из моря богиню. Морская галька, на которую упираются ступни нимф, напоминает о месте происходящего действия. Склоненные над Афродитой фигуры образуют как бы замкнутый круг, в пределах которого и развивается движение восстающей из вод, подобно раскрывающемуся цветку, Афродиты. Но эта замкнутая в себе композиция не только уравновешена симметрично. Ее равновесие полно внутреннего напряженного движения. Подъем пробуждающегося к жизни тела Афродиты, полураспрямляющиеся фигуры Ор создают движение, как бы способное разорвать упругую подвижность замкнутого композиционного круга. Но дождеобразно спадающие складки пеплоса Афродиты и хитонов Ор уравновешивают это движение. Подобно тому как взметнувшаяся ввысь упругая струя фонтана и спадающие вниз струйки воды создают вечное и бесконечно подвижное равновесие противоборствующих сил — динамического подъема и опадающего под действием силы тяжести движения вниз, — так и здесь устойчивое равновесие композиции достигнуто не путем спокойной статики, а подвижной гармонией противоположных сил.
Это ощущение гармонии как равновесие противоположностей насыщает классические композиции чувством внутренней динамики и живого напряжения силы. В данном случае речь идет не о формальном приеме, а эстетическом принципе, выражающем в ясной пластической форме одну из существенных сторон мировосприятия древних греков. Для них решающим являлась не столько бездумная свобода от тревог жизни, сколько гармония героики, достигнутая обретением меры равновесия в противоборствующих силах жизни, в ее вечных приливах и отливах. Лирическим воплощением этого идеала гармонии как найденной меры в соотношении противостоящих друг другу сил и является «Рождение Афродиты».
Не меньшее художественно-образное значение имеют изображенные на боковых рельефах нагая девушка и женщина, закутанная в плащ. Их позы почти тождественны друг другу и вместе с тем представляют полное
95
глубокого философского значения противопоставление. Сидящая нагая юная женщина — гетера непринужденно откинулась назад, ее пальцы легко и быстро скользят по флейте. Движения закутанной в плащ молодой женщины — хранительницы домашнего очага сдержанны, спокойны и размеренны. Оба образа воплощают разные стороны красоты и любви: бездумной любви и строгого семейного счастья. Их равно объединяет и композиционно и образно центральная группа с Афродитой, под властью которой они находятся, воплощая разные стороны служения богине. «Рождение Афродиты» создано в тот период, когда наивно буквальная вера в миф начинает отходить в прошлое, а искусство переходит от символического или наивно иллюстративного воспроизведения мифических историй и событий к раскрытию глубокого гуманистического содержания древних мифов. «Рождение Афродиты» — это яркий пример того органического слияния философского, этического и эстетического начал в человеческом сознании, которое в позднейшие эпохи приобретает раздельное дифференцированное развитие. В рельефе получают свое воплощение и композиционные искания, направленные на создание образа, в котором реальная достоверность события, поэтическая возвышенность и особая музыкальность находятся в органическом единстве. Представление о переходе к зрелой классике в статуарной пластике дает статуя Посейдона — одна из самых совершенных среди немногих подлинных статуй V в. до н. э. Бог моря изображен грозно шагнувшим с рукой, занесенной для удара, в которой, видимо, был зажат трезубец. Игра световых бликов на темной бронзе оживляет поверхность пластической формы и одновременно выявляет крепкую лепку объемов. Поражает то чувство огромной внутренней энергии, которое пронизывает все тело и находит свое естественное выражение в грозном выражении лица. Творец Посейдона (возможно, Агелад), по существу, решает тот круг проблем искусства зрелой классики, которые разрабатывает ее первый великий мастер Мирон. Особая ценность этой статуи и состоит в том, что в отличие от творений Мирона, дошедших в холодных мраморных римских копиях, статуя Посейдона дает возможность судить о мастерстве владения формой и материалом ваятелями той эпохи.
Важное место в развитии искусства ранней классики занимает монументальная скульптура — композиции фронтонов, метопы, фризы, — входящая в синтетический ансамбль греческого храма. Ее удельный вес в искусстве стал значительным еще в период развитой архаики, когда складывалась классическая ордерная форма культовой греческой архитектуры. Все более существенное значение приобретало стремление раскрыть внутреннее единство смыслового и образноэмоционального значения как храма, так и органически связанных с ним скульптур. Тем самым ставились вопросы и о сознательном образно-стилевом единстве архитектурных и изобразительных элементов. Особое значение приобретало достижение той связи языка скульптуры с художественным языком самой архитектуры, при котором скульптура и архитектура образовывали некое зрительно-дифференцированное пластическое единое целое.
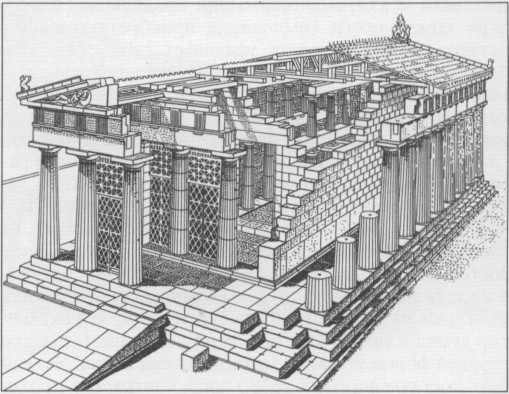
Храм Афины Афайи на острове Эгина. Аксонометрия
Этот процесс шел по двум тесно переплетающимся линиям. Во-первых, по линии более органического введения в архитектурную композицию храма скульптурных групп и подчинению их архитектурной логике целого. Во-вторых, по линии все большего выявления относительной самостоятельности или, во всяком случае, специфической образно-изобразительной роли скульптуры, отличающей ее по самой своей художественной природе от особенностей образного языка архитектуры. В задачу античных мастеров входили поиски путей созвучного объединения различных видов искусства при максимальном выявлении особых возможностей каждого из них.
Конкретные решения поставленной задачи можно проследить при сопоставлении некоторых наиболее значительных и относительно хорошо сохранившихся скульптурно-архитектурных ансамблей.
Одним из самых ранних является храм Афины Афайи на острове Эгина (около 500 гг. до н. э.). Он был украшен на фронтонах двумя скульптурными композициями, посвященными греко-троянской войне. В годы создания памятника легендарная война мифических героев воспринималась эллинами своеобразным провозвестником решающего столкновения Эллады с азиатским Востоком — с персидской деспотией. Небольшое поле фронтонов обусловило и сравнительно малые размеры статуй — они несколько меньше натуры. Лучше сохранился более ранний по типу западный фронтон. Его композиция решена по принципу зеркальной симметрии. Этот принцип уже входил в противоречие с более сложным и более живым пониманием равновесия. И действительно, зеркальный повтор фигур, узорчатый ритм композиции, в целом усиливая декоративную выразительность фронтона, все же снижают драматическую жизненность передачи самого события. Характерно, что центральная, осевая фигура фронтона — богиня Афина — дана фронтально, она предстоит подобно идолу и участвует в этой битве лишь символически-атрибутивно: своим щитом она прикрывает ахейцев от ударов троянцев. Любопытно, что статуи воинов, исполненные энергичного
96
движения и анатомически очень правильные, благодаря зеркальности композиции приобретают некую декоративность, которая усиливает стилистическую близость фронтона в целом с памятниками архаики. Иной характер присущ композиции восточного фронтона. Пластическая моделировка статуй здесь более жизненна и энергична, чем на западном фронтоне. Особенно поучительно различие в трактовке фигур раненых воинов, заполняющих углы фронтонов. На западном фронтоне воин с условной архаической улыбкой почти манерно-изящным жестом вырывает из своей груди поразивший его дротик. В раненом воине восточного фронтона найдено более живое и органическое решение. Дело не только в том, что художник отказался от архаической улыбки, а в том, что скульптор сумел в самой пластике передать в драматически суровой форме угасание жизненных сил воина. Четкий круг поставленного на ребро щита контрастно противостоит обессиленному и клонящемуся книзу телу героя. Тщетное усилие правой руки, опирающейся на землю и пытающейся удержать тело, противопоставлено движению левой, кисть которой бессильно выпускает скобу щита.
В фигурах восточного фронтона предвосхищается и новое понимание связи скульптуры с архитектурой. Прекрасно вписываясь в поле фронтона и не выходя из соподчинения архитектурному целому, фигуры занимают в нем достаточно самостоятельное место, менее рабски подчиняясь плоскости, чем статуи западного фронтона.
Следующий этап в развитии принципов синтеза оказался связанным с перенесением в монументальную композицию методов решения, найденных для отдельной фигуры и парной статуи. Таковы персонажи, изображенные на метопах селинунтского храма «Е» (470— 460 гг. до н. э.). Чтобы получить возможность построить столь сложные сюжетные композиции, скульптору прежде надо было овладеть передачей естественного, живого движения в статуарной пластике. Селинунтские метопы поражают архитектоническим величием фигур и одновременно жизненной выразительностью мотивов движения. Впечатляют стремительность порыва, с которой Геракл повергает царицу амазонок Антиопу, величавость движения полусидящего на скале могучего Зевса, обращенного к Гере, контраст между полным патетической энергии движением Актеона и бешеным порывом нападающих на него псов Артемиды. Своеобразный суровый, почти трагический дух, сдержанная одухотворенность движений, величавая красота лиц, лаконичность композиции, пластическая полновесность объемов человеческого тела определяют то значительное место, которое занимают селинунтские метопы в развитии монументального искусства ранней классики. Они одновременно дают представление о той эволюции в передаче действия, живой пластики форм, которую претерпевает при переходе к классике сицилийская скульптура, отличающаяся уже в VI в. до н. э. лаконичной весомостью и вместе с тем экспрессивностью своего художественного языка (например, метопа «Персей, убивающий Медузу» из храма «С» в Селинунте). Одновременно с селинунтскими метопами в самой Греции был создан огромный ансамбль фронтонов и метоп храма Зевса в Олимпии (около 460 г. до н. э.). Еще более непосредственно связанные с основной линией эволюции собственно греческого искусства, чем скульптуры Селинунта, олимпийские скульптуры являются работами переходными к зрелой классике. Сами размеры храма давали возможность создания больших монументальных образов.
Композиция восточного фронтона была посвящена мифическому состязанию Пелопса и Эномая. Художник изобразил момент, когда соревнующиеся вознесли моления Зевсу перед началом скачек. Об их готовности к стремительному бегу напоминают введенные в боковые части композиции запряженные в колесницу кони. Это один из первых случаев осознания в искусстве значительности ситуации, лишенной активного внешнего действия, но как бы концентрирующей потенциальную энергию последующих действий. В скульптурах восточного фронтона достигнута новая ступень и в умении передать в величественном покое статуи ее скрытую готовность к действию. Замечательно, что даже незначительное изменение постановки фигуры, поворота торса, головы позволяет понять смысл и характер того или иного образа. Уверенно поднятая голова Эномая подчеркивает его гордыню, тогда как фигура Пелопса выражает состояние задумчивой сосредоточенности. Особенно значительна фигура Зевса. Это одновременно и культовая статуя, венчающая главный фасад посвященного ему храма, и реально присутствующий при состязании бог. Он несколько крупнее, чем другие фигуры, но соразмерен им. В сдержанном развороте его мощного торса как бы воплощается высшее единство величавого покоя и могучей жизненной силы. Мощная архитектоника его полуобнаженного тела подчеркнута свободно ниспадающими вокруг бедер драпировками плаща, которые составляют ритмически выразительный контраст складкам плаща, небрежно перекинутого через плечо Эномая.
В этой композиции впервые в истории европейского искусства найдено столь ясное решение внутренней содержательности духовного состояния, скрытого конфликта и готовности к бурному действию. Конкретный характер события — фабула его развития — очерчена всего несколькими скупыми намеками: различие в состоянии Пелопса и Эномая, поворот лика Зевса к Пелопсу, отношение между Пелопсом и Гипподамией и так далее. Такое изложение фабулы было возможно потому, что сам миф, с которым связано возникновение Олимпийских игр, был хорошо известен грекам. Это и позволяло древнему эллину сосредоточиться на торжественном созерцании совершенства божественно-человеческого образа, на раздумьях о трагических судьбах героев мифа.
Так, на рубеже ранней и зрелой классики античное искусство находит способ передачи не только внешней фабулы события, но и внутреннего, более глубокого смысла. В этом отношении мастера олимпийского фронтона, а также Мирон открывают новую эпоху в понимании сюжетной ситуации, групповой композиции в изобразительном искусстве. Заметим, что впоследствии вся многофигурная сюжетная скульптура и живопись гуманистических, реалистических эпох начиная с эпохи Возрождения перерабатывают и развивают
97
Восточный и западный фронтоны храма Зевса в Олимпии. Реконструкция
эти принципы. Советская скульптура социалистического реализма также глубоко связана с подобным героизированно-реальным изображением внутренних конфликтов, героических состояний, объединяющих или противопоставляющих людей друг другу. Западный фронтон олимпийского храма был своеобразной альтернативой восточного фронтона. Она состояла в том, что принцип изображения мгновения величавого покоя восточного фронтона был соответственно противопоставлен принципу передачи кульминационной точки в развитии конфликта. Так, композиция западного фронтона была посвящена борьбе лапифов и кентавров. Согласно мифу в свадебном пире царя Перифоя участвовали кентавры. На пиру они опьянели, звериная стихийная сторона их натуры прорвалась наружу, и эти полулюди-полукони ринулись похищать лапифянских женщин и мальчиков. Этическая антитеза разумной гармонии и стихийного аффекта, характерная для ряда произведений классического искусства, воплощена здесь в противопоставлении бурной разнузданности движений кентавров и целеустремленной энергии движений эллинов. Над сплетением борющихся тел господствует образ властно простершего руку Аполлона. Неизбежный итог борьбы дан не столько в перипетиях отдельных схваток, сколько в образном и композиционно-ритмическом господстве центральной группы над всей композицией в целом.
Динамика сплетшихся в жестокой борьбе тел не разрушает органической ясности архитектурного целого. Это достигается и тем, что боковые фигуры повернуты к центру. Напряженным усилием своих тел они как бы замыкают бурный порыв движений, концентрируют его в пределах поля фронтона. Угловые фигуры лежащих женщин, наблюдающих битву, окончательно завершают композиционное целое.
Сравнивая оба фронтона с эгинскими, можно увидеть, как зеркальное равновесие сменяется собственно классическим пониманием симметрии. Число групп на правой и левой сторонах олимпийских фронтонов совпадает. Но каждая из них, составляя целое, не повторяет зеркально другую. Так, кентавру, похищающему мальчика на левой стороне западного фронтона, свободно соответствует фигура кентавра, вступившего в смертельную схватку с лапифом. Незеркальность равновесия на восточном фронтоне выражена менее резко, но также наличествует, Так, оттенок различия между самоуверенным Эномаем и более сдержаннососредоточенным Пелопсом приобретает существенное значение. В рамках строго выдержанной соразмерности, уравновешенности частей в целом это сопоставление имеет глубокое образное содержание. Следует отметить, что и образное соотношение двух фронтонов глубоко продумано. Бурное движение и напряжение западного фронтона составляет с главным — восточным — взаимодополняющий контраст, воплощающий общую идею торжества разума, воли и конечной гармонии.
Метопы, посвященные подвигам Геракла, помещены за колоннадой птерона (внешней колоннады), на торцовых стенах целлы, они образно и композиционно входят в общий ансамбль храма. Миф о Геракле воспринимался древними греками как одно из воплощений героических трудов человека, его борьбы с враждебными стихийными силами. Композиции метоп строятся на сопоставлении величаво-ясных по своим ритмам и пропорциям фигур. Таково изображение Геракла, укрощающего критского быка. Тела борющихся, расположенные по диагонали метопы, своим энергичным порывом могли бы разрушить рамки квадрата, но их противоположная направленность уравновешивает движение и не дает действию выплеснуться за пределы композиционного поля. Более того, развитие движения по диагонали жестко соподчиняет фигуры скрытым в квадрате геометрическим членениям. Эта метопа поучительна и особым качественным, а не количественным понятием равновесия и гармонии: тело быка тяжелее и массивнее, чем тело Геракла, но грузное движение животного уступает порыву героя, пронизанному целеустремленной волей. То есть согласно замыслу ваятеля меньшая масса при большей динамике уравновешивает большую массу, обладающую меньшим динамическим усилием.
Мир олимпийских скульптур вводит нас, по существу, вместе со статуей Посейдона в сферу искусства зрелой классики. В них не только впервые осуществляется новая концепция синтеза архитектуры и изобразительного искусства, но ясно раскрывается способность
98
скульптуры выражать в зримой телесной форме внутреннее духовное состояние человека. Этот процесс нашел свое завершение в появлении в конце V в. до н. э. такого понятия, как «схемата». Понятие «схемата» употреблялось при рассуждении о том качестве произведения, при котором собственно изобразительный момент произведения искусства сливается с его ритмической выразительностью. Вместе с тем «схемата» обозначает способность художника с ритмической выразительностью передать внутреннее состояние духа через определенное действие — движение тела.
На рубеже зрелой и поздней классики Сократ в беседах с живописцем Паррасием, по словам Ксенофонта, говорил, по существу, о схемате: «... величавость и благородство, униженность и рабский дух, скромность и рассудительность, наглость и грубость сквозят и в лице и в жестах людей ...» И далее в беседе со скульптором Клитоном Сократ замечал:«... скульптор должен в своих произведениях выражать состояние души»1. Понимание Сократом душевной жизни, отличающейся своим более психологическим характером, выражает представления конца зрелой классики. На данном же этапе речь идет еще не столько о более частном оттенке переживания или настроения, сколько о том существенном и важном, значительном духовном состоянии, в котором находится герой в данной ситуации. Такое состояние в искусстве зрелой архаики тоже наличествовало, но как извечное свойство героя, как некая радостно-торжественная или грозно-величавая значительность его состояния. В этом смысле схемата в искусстве классики является новой ступенью раскрытия духа человека.
Следовательно, схемата говорит не только и не столько о жесте в нашем смысле слова, сколько о пластическом выявлении внутреннего духовного состояния образа. Схемата может совпадать с фабульным, атрибутивным, сюжетным значением движения или жеста, то есть передачей внешнего действия человека, но она не тождественна ему. Сюжетно-формально Пелопс и Эномай почти тождественны, но их схемата передает существенно различные состояния их духа. Схемата может существовать и существует также при изображении человеческого тела, не производящего определенного действия, не участвующего в развитии какого-нибудь сюжета, какой-нибудь фабулы. Это может быть или прямо стоящий юноша или отдыхающий человек, и все равно в нем будет своя схемата, некое пластическое состояние открытого или скрытого движения, выражающего его общее состояние. Таково глубокое различие духа Аполлона с западного фронтона храма Зевса в Олимпии и Кефала с восточного фронта Парфенона, «Дорифора» и «Диадумена» работы Поликлета. Новый оттенок, связанный с более лирическим выявлением переживания, с более личностным оттенком состояния, порожденным конкретной ситуацией, получает схемата в группе «Прокна и Итис» Алкамена (около 420 г. до н. э.). Она более всего совпадает с представлением Сократа о способности скульптора передавать «движение души». В дальнейшем из схематы развился новый по сравнению с V в. до н. э. психологический драматизм образов Скопаса и Лисиппа. Младшим современником создателей олимпийских фронтонов и статуи Посейдона был Мирон. Родом из Элефтер, он работал преимущественно в Аттике в 460—440 гг. до н. э. Его работы еще в большей мере, чем скульптуры храма Зевса в Олимпии, принадлежат зрелой классике. Возможность судить о творчестве Мирона дают две мраморные римские копии его бронзовых статуй: «Дискобол» и «Афина и Марсий». В «Дискоболе» преобладает, как и вообще в скульптуре классики, фронтальная точка зрения, с которой наиболее полно раскрывается замысел образа. Но Мирон решительно отходит от традиционного типа прямо стоящего куроса. Юноша изображен в сильном движении в момент, когда он готов изменить положение и только что откинутая до предела назад рука с диском должна стремительно двинуться в противоположном направлении.
Мирон не только пытается выявить и обобщить основные ритмы сложного движения, но и выбирает то мгновение, когда только что закончилась, достигнув своей кульминации, одна его фаза и наступает мгновение равновесия. Этот момент дает возможность уловить в их законченности и предшествующий и последующий циклы движения.
Не менее примечательна группа «Афина и Марсий». Значение этой композиции состоит в том, что она кладет начало передаче образно-смыслового взаимодействия персонажей. В ней осуществляется принцип реалистического изображения конфликтной ситуации, столкновения противоположных сил, получивший столь плодотворное развитие в дальнейшей истории европейского искусства вплоть до наших дней.
Группа посвящена мифу, рассказывающему о том, как Афина заметила, что при игре на флейте ее щеки уродливо раздуваются. Богиня бросила и прокляла созданный ею инструмент, который нарушал красоту ее лица. Однако плененный игрой силен Марсий хотел подобрать брошенную флейту. В группе Мирона уходящая Афина гневно обернулась на ослушника, а испуганный Марсий отпрянул назад. В таком противопоставлении участников сцены зарождается принцип композиции, раскрывающий конфликт противоборствующих сил. Благородство и в гневе сдержанной Афины противопоставлено Марсию с его по-звериному гибкими движениями и дисгармоничным лицом. В этом противоборстве божественно-человеческое начало выступает как эстетическая антитеза уродливой стихийности аффекта. Удивительно мастерство, с которым Мирон замыкает в ясной, устойчивой композиции столь противоположные фигуры. Поучительно также и сопоставление головы Афины с головой Марсия: состояние аффекта, как и состояние внутреннего покоя, дано в самых общих, не индивидуализированных, универсальных формах. Даже уродство Марсия носит идеальнотипический характер своего рода антигармонии. Мирон обратился для этого к типу уродливой головы силена, широко распространенной тогда в мелкой пластике и особенно в вазописи. Примечательно, что уродство негативного образа в V в. до н. э. выступает обычно в подчинении гармоническому образу совершенной человеческой красоты. В то время уже было невозможно такое естественное для ранней архаики
1 Цит. по кн.: «Памятники мировой эстетической мысли», т. 1. М., 1962, с. 90, 91.
99
решение, при котором облик Горгоны занимал господствующее положение в композиции фронтона. Римские копии «Дискобола» и отдельные фигуры Марсия и Афины оставляют нас в неведении относительно собственно пластического языка Мирона. К счастью, сохранились навеянные мотивами скульптур Мирона произведения близких ему по времени безвестных мастеров. Так, бронзовая статуэтка «Дискобола» дает возможность ощутить живую подвижность пластической поверхности, ту естественную свободу и гибкость формы, которые оказались потерянными в мраморной римской реплике.
К началу зрелой классики относится и большой мраморный рельеф, изображающий опирающуюся о копье Афину, погруженную в состояние глубокой задумчивости. Пронизывающая образ сдержанно-строгая грация схематы выражена и в спокойной торжественности драпировки.
Творчество Мирона представляло собой первое проявление искусства зрелой классики. Вместе с тем оно выражало и одну из его главных тенденций. В зрелой классике угадываются как бы два варианта решения основной образно-пластической задачи, поставленной временем. Иногда эти варианты четко отличимы, иногда они как бы переплетаются друг с другом. Создание совершенного образа всесторонне развитого человека в одном случае решалось путем выявления красоты движения — действия человеческого тела. Другой путь к гармоническому образу был связан с созданием фигуры, находящейся в покое, но полной движения скрытого. В какой-то мере такой мастер, как Фидий, синтезировавший основные тенденции в развитии классики, объединил и обе эти тенденции. В большинстве же случаев в 460—430-х гг. до н. э. они чаще существовали порознь, причем преимущественный интерес к тому или другому варианту решения определялся скорее школой, чем индивидуальными творческими интересами мастеров. Так, первый вариант был более разработан в пределах ионийских или аттических традиций, тогда как/проблема создания монументального образа спокойно стоящей фигуры решалась преимущественно мастерами аргосско-сикионской школы. Именно в пределах этой школы и сложилось искусство наиболее яркого представителя второй тенденции — Поликлета. Поэтому, хотя Поликлет был современником Фидия, целесообразнее рассматривать его искусство как своеобразную антитезу творчеству Мирона.
Создание образа героически прекрасного человека, исполненного сдержанного напряжения жизненных сил, составляло основную задачу Поликлета (работал в 60-х — 20-х гг. V в. до н. э.). Для современного зрителя такая тема может показаться несколько узкой, но для античного грека, привычного к тому, что человек был, собственно, единственным объектом изображения, творчество мастера не казалось монотонным. Наибольшей славой пользовался его бронзовый «Дорифор» («Копьеносец»). Лишь примерное представление о нем дает пластически бедная дошедшая до нас мраморная копия римского времени. Кроме того, копиист, считаясь с хрупкостью мрамора, укрепил статую, приставив к правой ноге Дорифора мраморное изображение пня. Это сразу нарушило то ощущение упругой устремленности вверх, которое имело чрезвычайно важное значение в общем решении композиции. Целесообразность конструкции человеческой фигуры Поликлет раскрывает в сопоставлении упругих, сильных ног и мощных, тяжелых объемов грудной клетки и плеч. Их столкновение создает проникнутое противоборствующими силами равновесие, подобное тому, которое дает соотношение колоннады и антаблемента в дорическом ордере.
В дошедших до нас несколько более поздних греческих бронзовых статуэтках, выполненных в традициях Поликлета, отчасти приглушено столкновение давящего и несущего начал в конструкции человеческого тела, столь жестко передаваемое в римских репликах. Да и в самом творческом развитии мастера, даже судя по римским репликам, постепенно намечается некоторое смягчение героической строгости ранних образов. Об этом позволяет думать реплика с его позднейшего «Диадумена».
Художественный метод мастеров круга Поликлета с годами эволюционировал в сторону большего лиризма, что нашло выражение в бронзовой статуэтке «Обнаженная девушка» (конец V в. до н. э.). Этот же процесс постепенного смягчения пластического идеала Поликлета, переходящего в почти праксителевскую уточненность образа, угадывается в бронзовой статуе «Эфеба из Помпей» (поздняя античная реплика с оригинала конца V в. до н. э., находящаяся в неаполитанском Национальном музее).
Имя Поликлета связано с созданием системы отношений и норм, определяющих совершенные пропорции человеческого тела, — так называемым каноном. Трудно сказать, был ли Поликлет создателем канона. Однако в его творчестве принцип применения канона при построении художественного образа, видимо, проводился с особой последовательностью. Поэтому и считается, что сам Поликлет разработал в соответствующем трактате теоретическое обоснование понятия и норм канона.
Искусство зрелой классики наиболее сознательно осуществляло принцип канона. Однако само стремление к его применению в художественной практике присуще всей художественной культуре эпохи становления и расцвета полиса. Более того, канон в античном искусстве является одним из проявлений стремления выразить в законченной системе художественных приемов или принципов художественного построения формы идею о том единстве художественного языка, той устойчивой ясности художественных решений и известной нормативности, которые характерны для всех так называемых великих стилевых систем в истории искусства. Эти системы складывались в те периоды, когда эстетическое единство художественной культуры эпохи находило свое прямое выражение в целостности художественного языка.
Собственно говоря, стилевая в этом смысле форма развития искусства была свойственна художественной культуре в течение длительного времени. Признаки разрушения, а вернее трансформации такой системы наступают только в европейском искусстве XVII—XVIII веков. В XIX веке, то есть в эпоху капитализма, развивается искусство, построенное не на художественной системе, руководящейся строгим и четким единым и
100
относительно устойчивым художественным пластическим языком. Это не значит, что искусство XIX века было лишено стилевого единства в широком смысле этого слова. Все же и тогда господствует определенная концепция отношения искусства к задачам изображения окружающего мира. Складывается также и новая иерархия видов искусства, при которой решающее значение в осуществлении эстетических идеалов времени получают литература и музыка. Правда, эта иерархия не была задана. Она складывалась относительно стихийно. Художник как бы волен был обращаться к любому способу создания картин. И все же и в эту эпоху господствует свое понимание типа искусства, вернее идет борьба двух принципов понимания социальной и эстетической задач искусства.
В целом и искусство XIX века обладает своим определенным противоречивым художественным единством. Однако исчезает органически непроизвольное стремление к единству художественно-пластического языка всех жанров и видов искусства. Вместе с тем обращение к конкретному многообразию жизни, поиски типического в самой реальности, повышение удельного веса сюжета и фабулы, особенно существенное значение личного аспекта в творчестве художника не благоприятствуют созданию собственно пластической цельности стиля, хотя и накладывают совершенно определенный отпечаток на весь «тип» искусства.
В какой-то мере в XX веке проявляется стремление возродить, сохранив основные достижения XIX века, на иной, более высокой социальной, философской и эстетической основах старую, временно утраченную концепцию пластически зримого художественного единства эпохи, единства пластических принципов всех видов искусства, то есть возродить стилевые, в узком смысле слова, формы. Но пока это стремление осуществляется глубоко противоречиво.
В основе этого противоречия — ожесточенная борьба между холодно-формализированным, антигуманистическим решением этой задачи в рамках культуры эпохи империализма и органически формирующимся собственно гуманистическим решением задачи в культуре социалистического мира. В целом все же вряд ли возможно повторить стилевые принципы более ранних стадий развития искусства. Каково же будет это иное, более опосредованное и личностно-дифференцированное единство исполненной постоянной внутренней динамики художественной системы коммунизма, покажет будущее.
Вернемся, однако, к античному канону. Что такое канон и какова специфическая роль канона именно в античной художественной культуре? Применительно к искусству этот термин понимается как мера, правило, норма или, как говорил Деметрий, автор философского трактата «Канон», это «закон и мера прекрасного». В этом смысле термин «канон» применялся и для языка. Так, в конце V в. до н. э. нормой, моделью — «парадигмой» совершенного греческого языка для аттического диалекта считался литературный язык Фукидида. Поэтому канон как термин, применяемый не только для произведений изобразительного искусства, носил более широкий общеэстетический характер. В пластических искусствах канон как один из моментов, обеспечивающих художественное единство стиля, применяется преимущественно в зодчестве и ваянии. По существу, в этом смысле канон является системой определенных пропорциональных отсчетов, обеспечивающих гармоническое создание прекрасной статуи или произведения архитектуры, и неразрывно связан с живой практикой искусства.
Не нужно думать, что канон являлся системой исполнительских рецептов или сводом произведений, выступающих в качестве некоей идеальной модели для подражания. Такое понимание скорее характерно для искусства Древнего Востока и некоторых периодов в развитии средневекового искусства. В греческом же искусстве обращение к канону отнюдь не приобретает значения точного эталона или отвлеченной нормативизации творчества. Канон содержит в себе как органическое, так и программное начала творческого акта. Канон вырабатывается на основе изучения оптимальных пропорций человеческого тела. Теоретически он стремится уловить в строении человеческого тела воплощение той числовой гармонии, того совершенства пропорций, которые как бы пронизывают весь космос и воплощают в образе человеческого тела идеи гармонии ясно сочлененного целостного мира. Практически скульптор, «строя» статую, все же исходил из определенной системы пропорциональных соотношений в строении реального человеческого тела, причем исходил не из какой-то отвлеченной математической цифры, а из размеров определенной части человеческого тела, которая являлась исходной единицей отсчета. Таковы были отношения ступни, головы, размаха рук, торса, которые должны были укладываться в определенные кратные отношения. Очень возможно, что огромные атланты Агридженто в качестве масштабной единицы отсчета имеют голову. Кратность ее уложения по высоте тела образовала канон. Куросы Полимеда скорее всего построены на соотношении их общего роста к размерам ступни. В V в. до н. э. система отсчета становится менее элементарной, единица отсчета — меньшей, позволяющей более гибкое и дифференцированное построение пропорций. Так, Поликлет находит исходную дробную единицу отсчета, соотнося масштаб человеческого тела к масштабу фаланги большого пальца руки, строя на этом основном отсчете строго продуманную систему других пропорциональных соотношений. Таким образом, сама система пропорциональных отсчетов приобретает характер тонкой игры числовых отношений, всегда связанных, однако, с жизнью реального тела и дающих возможность приблизиться к некоей средней норме пропорций живого тела.
В целом проблема канон — художник может иметь два аспекта. Канон может стать некоторой заданной извне схемой, существующей вне творческой воли художника. Тогда мастер слепо подчиняется стилевому эталону, лишь бессознательно или робко позволяя себе несколько отойти от него (некоторые периоды в искусстве Древнего Востока). Такой отход придает живость произведению искусства, являясь, однако, как бы противозаконным.
Другое понимание канона в практике художника исходит из того, что творческая воля мастера, руководствуясь общими принципами искусства своего времени, его стилевой системой, которую он органически
101
разделяет, находит, опираясь на опыт предшественников, свое художественное решение проблемы в пределах общего стилевого целого, свой канон и творчески им пользуется. В этом случае и сама приблизительность решения пропорций является не случайностью, а как бы входит в заданный расчет. Поэтому канон у Мирона иной, чем у Поликлета или у Фидия. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить крупноголовые и массивные статуи Поликлета с более стройными скульптурами Мирона, с их относительно малой головой. Можно также сравнить чувственную свободу движений и пропорций статуй фидиевского круга с более математической строгостью построения мироновской или поликлетовской статуи. А из памятников IV в. до н. э. достаточно сопоставить свойственное Скопасу сочетание динамики, резких контрастов и некоторой массивной грузности пропорций с мягкой, текучей гибкостью утонченно грациозных тел героев праксителевского искусства.
Более того, в каждой статуе сообразно с художественно-образной идеей произведения мастер видоизменяет в оттенках свой канон. Сравним, казалось бы, незначительные, но столь существенные для образного звучания различия поликлетовских «Дорифора» и «Диадумена». В этом смысле античный канон носит иной характер, чем канон в искусстве Древнего Египта или чем каноническая система утонченно точных рапортов, на которых строится декоративно-орнаментальное искусство арабского мира. Именно в греческом искусстве канон в наибольшей мере сочетает на практике такие противоречивые требования всякого стилевого искусства, как единство художественного принципа и метода изображения с чувственно конкретным своеобразием каждого данного художественного решения.
Следует в связи с этим остановиться и на вопросе о том, в какой мере канон является общим принципом искусства любой художественной эпохи. Приходится иногда встречаться с соображениями, что поскольку канон основан на четко выраженных числовых пропорциях, дающих количественную расшифровку механизма качественных ценностей искусства, то канон можно усмотреть и в искусстве Возрождения и в искусстве XVII века. Только при этом, как например, при изучении искусства Рембрандта, приходится, так сказать, применять сложнейшие математические выкладки, дающие возможность учесть фактор ничтожно малых величин и запутанных сложных пропорциональных отношений, в которых они выступают (скажем, в «Ночном дозоре» Рембрандта).
Однако бросается в глаза, что античный мастер владел нехитрым математическим аппаратом расчетов канонических пропорций своего времени, в то время как Рембрандт, Франс Халс или тем более какой-нибудь «малый голландец» вряд ли владели тем сложным математическим аппаратом, которым располагали Лейбниц или Спиноза. Только оперируя таковым, и можно было бы создать точный математический анализ построения картины XVII века. На деле эта картина являлась результатом художественной интуиции живописца, конечно, опирающегося в ходе ее создания на определенные композиционно-ритмические принципы, опыт и так далее. Но в таком случае можно говорить лишь о том, что сложный мир ритмических, эмоциональных ощущений и представлений, идей, идеалов художника, воплощенный в картине, всегда может быть расшифрован извне и описан достаточно сложным математическим аппаратом с весьма сомнительным успехом в деле раскрытия собственно образного содержания картин. Ведь для этого содержания момент чисто пластических пропорций, построений не являлся уже главным и, во всяком случае, задуманным до появления образного замысла и тем более не был единственным методом воплощения духовного мира личности художника, его способности к овладению миром. Суть же канона в собственном смысле слова как раз и состоит в том, что художник осознает красоту пропорций и масштабов строения совершенного человеческого тела и сознательно стремится найти математически выраженные законы такого построения.
Более важно другое. Древнему египтянину, древнему эллину, человеку средневековья, конечно, была свойственна идея о неких общих, пластически выраженных принципах изображения тела, построения композиций, которые были призваны воплотить этический и эстетический идеалы эпохи. Начиная с эпохи Возрождения все сильнее дает себя чувствовать другой эстетический принцип — раскрытие эстетической выразительности типичных явлений жизни через неповторимую характерность ее конкретного явления. В реализме XVII века выражение сложного мира психологических, этических ценностей личности, сложных взаимоотношений социального и бытового укладов жизни отнюдь не связывалось с идеей некоторой нормы пластически совершенного, художественно идеального воплощения тела человека.
Канон представляется конкретно-историческим выражением того, что искусство стремится к определенной системе художественного языка, руководствуется характерными для мировоззрения художника общими эстетическими концепциями эпохи. Но канон есть поэтому особый исторически преходящий тип проявления и осознания этих общих закономерностей. И нам важнее не растворить понятие канона в общем понятии неких пластических закономерностей, присущих искусству в любую эпоху, а выявить его историко-художественную неповторимость. Поэтому попытка возрождать канон, возрождать определенную идеальную систему построения человеческого тела уже в эпоху классицизма имела, по существу, совершенно иной, чем для Мирона или Поликлета, художественный смысл.
Действительно, уже в античности, начиная с «Аполлона Бельведерского», а в позднейшие времена у Буало или у Торвальдсена канон становится системой холодной кодификации, наложения неких условных нормативов на живую ткань художественного образа. Он приводит к стереотипности, идеальной отвлеченности, создает некую статическую недвижность всей стилевой структуры, противостоящей уже исторически развитому чувству живой характеристики образа.
Канон существовал и в архитектуре как система определенного отсчета пропорций. Вначале за единицу отсчета архитектор полагал диаметр колонны, идя ко все более дробным, а потому и гибким системам
102
отсчета. В архитектуре эта система отсчета перекрывалась и другими системами пропорционального гармонического построения целого. Таков особенно широко используемый в архитектуре принцип золотого сечения. Как известно, с точки зрения математической, это деление отрезка, при котором большая часть отрезка является средней пропорциональной и всему отрезку и его меньшей части. Алгебраическая формула этого деления очень проста. Но дело в том, что целое к большему отрезку относится примерно как 3:2 или 100:62. Так, масштабы членимых форм по отношению друг к другу исчисляются, исходя из меры, не выражаемой простыми целыми числами.
Поэтому пластически зрительно это ясное ощущение гармонической пропорциональности свободно от «сухой» исчисленности. Для эллина живая пластика художественно выразительных форм, в том числе и архитектурных, не может быть выражена в точных целых числах.
Надо сказать, что и эти нормы в своем практическом осуществлении, так же, как пропорциональная система, принятая при построении тела, практически всегда несколько нарушались. В мастере классики всегда жило ощущение свободной органичности сложения человеческого тела. Он как бы выявлял скрытую в телах закономерность их построения, а не загонял живую структуру тела в прокрустово ложе арифметических расчетов. Отсюда и то тонкое равновесие между ясной структурой гармонических форм и их живым дыханием, богатством оттенков «схематы» и движения в самой лепке тела.
Особо яркий пример этому дают скульптуры Парфенона. Форма, будучи в основной своей структуре каноничной, вместе с тем сознательно должна была быть приблизительной, живой и сочной. Только тогда она могла производить на человека органическое впечатление. Образ — не схема, а живое органическое состояние. Он обладает своей живой неповторимостью, не сводимой к простым количественным расчетам, он не воспроизводит в рамках канонической типичности другое произведение.
Это наблюдение имеет не только частное, но более общее значение. Дело в том, что в современной эстетической мысли идет борьба между приверженцами категории количества и качества. Действительно, одно из свойств искусства состоит в том, что каждое его произведение качественно неповторимо, так как оно воплощает наше представление об эстетической ценности телесно-духовного образа человека, во всей его чувственно неповторимой конкретности, всего обаяния, во всей неповторимости проявления его человеческих качеств. Сведение этих ценностей к точно количественно измеримым элементам и освобождение от критериев качественной ценности выводит нас из сферы искусства, из сферы живой человечности и не дает, следовательно, ключа к подлинному пониманию его сущности.
Поэтому образы, созданные Поликлетом, даже такие близкие по мотиву, как «Дорифор» и «Диадумен», являются не отвлеченными рассчитанными моделями, информирующими нас о структуре человеческого тела, а образами человека. Они в пределах общей стилистики не тождественны друг другу. Есть качественные различия в оттенках их образной жизни; большая величавая строгость одного, чуть большая лиричность схематы и мягкая плавность движения второго. Существенно иную качественную интонацию, чем искусство Мирона и Поликлета, также внутри единого стиля или духа времени несет в себе творчество Фидия.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АФИНСКИЙ АКРОПОЛЬ, ФИДИЙ
Творчество Фидия, величайшего мастера зрелой классики, неразрывно связано с перестройкой афинского Акрополя. Ряд знаменитых в древности творений Фидия (хрисоэлефантинная статуя1 Зевса в храме Олимпии, статуи Афины, созданные для Акрополя, статуя амазонки) не дошел до нас. Сохранились в целом ряде случаев лишь недостаточно достоверные поздние римские копии.
По отзывам древних и по этим копиям мы можем думать, что мастер как бы синтезировал в своем творчестве опыт Мирона и Поликлета, сочетая ясную силу пластических форм поликлетовского искусства с большим динамизмом, большей склонностью к передаче действия мироновской традиции. Вместе с тем в творчестве Фидия нашли яркое выражение свойственные культуре афинской державы V в. до н. э. поиски единого эллинского стиля. Его характерные черты — единство конструктивной ясности и чувственной жизненности — особенно ярко сказались именно в скульптурах Фидия и в архитектурном ансамбле нового Акрополя. Поскольку Фидий руководил подготовкой планов нового Акрополя и его строительством, его творчество можно рассматривать одновременно с характеристикой ансамбля Акрополя. (Тем самым в данном случае мы отходим от принятого в остальных главах раздельного рассмотрения зодчества и ваяния.) Такой путь тем более уместен и по той причине, что творческая личность Фидия поражает своим универсализмом.
Эпоха теснейшего синтеза скульптуры и архитектуры, пластичности самих форм греческой архитектуры, общего стремления к гармонии облегчила возможность возникновения столь величавого ансамбля афинского Акрополя. Чтобы оценить полностью своеобразие 'Акрополя, надо хотя бы в общих чертах представить его роль в архитектурном облике Афин. В связи с этим возникает необходимость кратко остановиться на некоторых особенностях градостроительства и понимания роли ансамбля в художественной культуре классики. Проблема иерархии ценностей общественных и индивидуальных сооружений, задачи по осуществлению принципов разумности и соразмерности города как целого рано или поздно должны были решаться и теоретически и, главное, практически. Между собственно городом и храмами как высшим выражением идеи единства полиса существовала определенная взаимосвязь. Обычно над городом
1 Статуя в хрисоэлефантинной технике выполнялась следующим образом: на деревянный каркас прикреплялись пластины из слоновой кости (для обнаженных частей тела) и золота (для одежды). Эта техника применялась уже в эпоху архаики.
103
возвышался храм, представляя его особую эстетическую, этическую, культовую значимость. Противопоставление этой ясной гармонии храма стихийному конгломерату жилищ, характерное для архаического города, в эпоху классики видоизменяется и приобретает особый художественно-образный смысл. Развитие градостроительства как науки (впервые ее успехи мы наблюдали уже в архаике) вносит много нового и в эти соотношения. В ансамбле города все более монументальную акцентировку получают промежуточные звенья между храмом и жилым массивом города: агора, театр, булевтерий. Поэтому в течение VI и V вв. до н. э. все яснее выявляется связь храма, агоры и прочих сооружений с реальной и идеальной целостностью полиса, что становится необходимым условием его нормального существования. Так, в Афинах создание на холме Акрополя нового ансамбля храмов вместо разрушенных персами сопровождалось сооружением других монументальных зданий вне Акрополя, расположенных в самом городе. Постепенно создавалась целая система сооружений, начиная от величаво возышавшегося над округой Акрополя и кончая архитектурно оформленными фонтанами, доставляющими в город воду горных источников. Возникала структура города как разумно организованного целого, в котором соединялись два основных типа сооружений: жилые дома, подвластные закону бытовой рациональности и утилитарной красоты, и храмы, живущие интенсивной образной жизнью и воплощающие высокие идеи эпохи. Между ними располагался ряд сооружений промежуточного типа, но все они образовывали некое высшее живое единство города-полиса. Стихийный принцип застройки жилых кварталов VII—VI вв. до н. э. вступает в противоречие с идеей разумного единства города. Уже в Афинах градостроители не только расширяют площади, разбивают сады, но и пробивают несколько больших магистралей, которые вносят порядок в хаос старых жилых кварталов. Одной из них была Панафинейская дорога, украшенная мемориальными памятниками, портиками. Она пересекала город и служила той магистралью, по которой развертывалось направлявшееся к Акрополю всенародное шествие больших Панафиней. Аналогичные усилия предпринимались и в других городах Греции.
Однако в старых городах новые градостроительные теории, развивающие тенденции разумной планировки, не могли получить последовательного осуществления.
Расцвет новых градостроительных идей был вызван постройкой или перестройкой новых городских ансамблей. Так, были проведены восстановление разрушенного персами в 494 г. до н. э. богатого малоазийского города Милета и застройка при Перикле военного и торгового порта Афин — Пирея. Общее ознакомление с этими шедеврами классической градостроительной науки позволит представить себе роль и место храмовой ордерной архитектуры в пейзаже города, особый уклад городской жизни.
Планировки Милета и Пирея охватывали всю инфраструктуру: портовые зоны, склады, арсеналы, жилые районы, агору, места для храмов и так далее. Они были наиболее совершенными в античной Греции урбанистическими комплексными планами, основные идеи и градостроительные концепции которых не утратили своей ценности и сегодня.
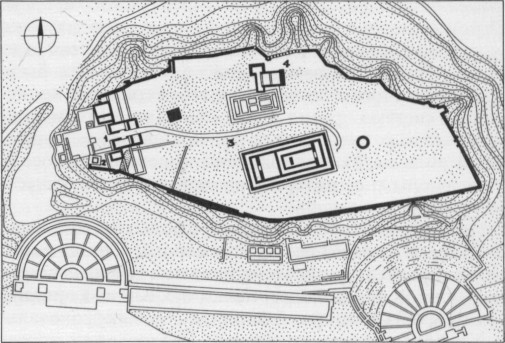
Афинский Акрополь. V в. до н. э. План
1. Пропилеи. 2. Храм Ники Аптерос. 3. Парфенон. 4. Эрехтейон
Оба осуществленных проекта связывают с именем Гипподама. Сведения, которыми мы о нем располагаем, столь же скудны, сколь и разноречивы. Одно бесспорно, что Гипподам не был просто инженером-строителем. Не известно даже, в какой мере он практически осуществлял подготовленные им проекты. Он не был также зодчим в узком смысле этого слова, мы не знаем ни одного сооруженного им храма. Гипподам был известен как математик, философ и даже астроном (или метеоролог). Видимо, это был мудрец ранней и зрелой классики, универсальный и всесторонне развитый, видящий во всякой деятельности человека проявление его разумной воли, его способности всему находить меру.
Гипподам, как и его современники, был убежден, что при построении вещей, зданий или городов человеку присуща потребность сочетать практическую целесообразность с совершенной всеобщей разумностью числовых пропорционально-ритмических закономерностей. Соответственно с этими принципами был возрожден Милет (если не самим Гипподамом, то по системе, получившей название гипподамовой) и создан Пирей, входивший в число весьма немногих построенных по плану больших городов прошлого.
В отличие от даты разрушения Милета дата начала его восстановления и создания плана вызывает известные споры. Одни ученые склонны считать, что работы были предприняты вскоре после освобождения территории разрушенного Милета — в 479 г. до н. э., другие относят срок начала работ к середине века1. Правда, определение системы регулярной планировки Пирея как милетской говорит в пользу раннего срока начала работ. Перикл, видимо, привлек Гипподама к строительству Пирея, когда сложные планировочные работы в Милете были уже завершены.
Следует подчеркнуть, что Гипподам разработал свои принципы градостроительства не на пустом месте. Вероятно, и опыт восточных строителей, и опыт
1 См. подробно в кн.: М. М. Кобылина. Милет. М., 1965.
104
введения порядка в планировку архаического острова Самос, и первые попытки разбивки города на зоны (новые города архаической Сицилии) — все сыграло свою роль. Но впервые именно в V в. до н. э. была применена строго логически и геометрически продуманная система правил для последовательной планировки города как единого функционального целого. Свою роль сыграли и традиции милетской философской школы с ее интересом к практической общественной стороне жизни.
План нового Милета был сделан с большим размахом и с учетом дальнейшего роста города. Схема наполнялась архитектурным содержанием в течение многих десятилетий, но не подвергалась каким-либо принципиальным изменениям благодаря своей первоначальной простоте и рациональности. Градостроитель разбил план нового города на далеко выступающем в море мысе. Силуэт полуострова, неровности почвы определили характер планировки города из трех жилых массивов, каждый со своим масштабным модулем: прямоугольным участком для застройки и своей нормой ширины улиц. Эти три района были разделены зонами, отведенными для возведения общественных построек. Они были спланированы по принципу прямоугольной сети, а направление улиц в их отношении к странам света было тождественно.
Наиболее крупными были участки южной части. Улицы достигали ширины около 7 метров. Следует напомнить, что в старых, стихийно формирующихся городах улица шириной в 2—3 метра была скорее правилом, чем исключением. По тем временам это была вполне оправданная ширина. Характер движения (оно было сосредоточено в основном в районе портовых бухт), высота двухэтажных домов оправдывали эту ширину и с точки зрения пропорций и с точки зрения транспортных функций.
Центральная — наиболее низкая часть полуострова являлась узловым центром города. К ней и примыкали основные жилые районы. В ее зоне были разбиты участки для двух рынков, расположены портовые сооружения. В южной части этого района акцент переносился с утилитарных ансамблей на представительные общественные сооружения: большая прямоугольная агора, гимнасий, храм Афины (его в первую очередь и начали строить) и, наконец, булевтерий. В северной части общественной зоны был разбит участок для святилища Аполлона. На обращенном к югу склоне северо-западной части полуострова был выделен в удобном для этого месте участок для театра, рассчитанный так, что зрители сидели лицом к заливу. Построенный уже в эпоху поздней классики, он стал одним из красивейших по архитектуре и расположению античных театров.
Достаточно бросить взгляд на чертеж, чтобы оценить рациональную функциональность плана, его логическую продуманность, своеобразное геометрическое изящество группировки застроек.
Пирей, расположенный на выдающемся глубоко в море полуострове Акте и связанным с ним скалистым полуостровом Мунихия, со своими тремя бухтами, глубоко врезанными в сушу, был предназначен самой природой стать торговым и военным аванпостом Афин, которые находились в 8 километрах от побережья. Еще при Кимоне Афины и Пирей были объединены так называемыми длинными стенами в один оборонительный комплекс. В середине V в. до н. э. при Перикле Гипподам произвел полную перепланировку Пирея.
Живописный и сложный силуэт территории предопределил и большую дифференцированность плана, продолжающего традиции милетского решения, но вводящего на перекрестках некоторых улиц большие прямоугольные площади. Поражает та пространственная свобода, с которой Гипподам связал друг с другом три основных зоны: зону торгового порта с складом (эмпорион), агоры и святилищ и, наконец, военной гавани. Нельзя не признать, что планы Милета и Пирея, с точки зрения урбанической, то есть соответствия организованной территории города тогдашним потребностям быта, экономической и общественно-идеологической культовой жизни, безукоризненны.
Гипподам не подсказывает каких-либо конкретных решений современным градостроителям. Но его видение города как единого организованного целого, гармоническое сочетание основных элементов структуры города, простота и изящество его решений и, главное, возможность их осуществления до сих пор являются примером для градостроителей.
Если ясный и достаточно гибкий рационализм Гипподама, тонкое применение модуля в пропорциях участков и сегодня способны нас подкупать, то следует указать, что изящный геометризм планировки, определяющий несколько жесткое включение храма, театра, агоры в заранее рассчитанный метрический порядок целого, представляется лишь одним из возможных решений городского ансамбля.
Следует напомнить и о другом решении, которое было найдено при перестройке уже сложившихся Афин и особенно фидиевского Акрополя. Это и естественно, ведь Гипподам был философом и геометром, а не ваятелем и зодчим, как Фидий. Все же так называемая гипподамова система планировки была достаточно широко распространена и пользовалась большим авторитетом. Достаточно для этого бросить взгляд на чертеж — план Олинфа. В известной мере близка гипподамовой концепции и планировка Родоса (начатая с 406 г. до н. э.)
Все же переход к более свободной живописной планировке городов поздней классики и эллинизма приведет (например, в Пергаме) к качественно иному решению образа города, основанному на переработке как гипподамового рационализма, так и более пластического, менее подчеркнуто рационалистического в своей органичности решения, данного в афинском Акрополе.
Вместе с тем не следует рассматривать эти два варианта решения как два противоположных принципа. Не следует забывать, что заданные условия планировки были существенно различны. Скорее всего они выступали как два взаимодополняющих друг друга варианта классической эстетической и духовно-практической деятельности, составляя одну из существенных черт античной культуры — переплетение «поэтического» геометризма в анализе меры, эуритмии с разумно прекрасным пластическим восприятием мира.
105
Обратимся к анализу тех форм сочетания монументальной скульптуры и зодчества (тесно связанных с принятыми принципами планировки), которые были найдены на афинском Акрополе. Как было замечено, Акрополь строился по несколько иным принципам, чем последовательный геометрический рационализм гипподамовой системы. Определенное значение имело и то, что некоторые древние святилища издавна находились на акропольском холме и с этим приходилось считаться древним зодчим. И все же для планировки афинского Акрополя характерно сознательное стремление создать своеобразную систему архитектурно-скульптурных объемов и форм, находящихся в свободном равновесии, образующих тот «гармонический» контраст друг другу, который знаком нам и по скульптурным и скульптурно-архитектурным композициям.
Единство свободы и мерного порядка, общий дух радостной героичности целого и сегодня Поражают в Акрополе, который завершает и венчает облик Афин. Конечно, и планировка Акрополя в своем роде функциональна, то есть сообразна цели. При этом цель состояла в том, чтобы выразить величие и красоту полиса, его священное для каждого афинянина значение, соответственно организовать, направить движение праздничных Процессий, эстетически приобщить их участников к тем великим идеям и чувствам, которые формировали мировоззрение граждан полиса. Акрополь был воздвигнут на одном из трех холмов, вокруг которых расположился город. Акропольский холм занимал центральное положение, его крутые скалистые склоны (относительно удобный подъем был только с узкой западной стороны холма), плоское плато его вершины делали Акрополь исключительно удобным для обороны и для строительства. Именно на Акрополе и возникло еще в ахейское время древнейшее городище первоначальных Афин, позже разросшееся в большой город. Уже в VI в. до н. э. на Акрополе не жили, он был превращён в цитадель, в месторасположение главных святилищ города. Разрушенный во время персидского нашествия, Акрополь некоторое время находился в запустении. С середины V в. до н. э. началась перестройка относительно стихийно сложившегося ансамбля архаического Акрополя. На смену ему пришел построенный по единому плану, хотя и учитывающему расположение старых святилищ, величественный ансамбль классического Акрополя. В ансамбле Акрополя нашло свое торжествующее утверждение несколько хаотическая группировка жилых кварталов старых Афин. И дорога процессий, ведущая к агоре, а затем к Акрополю, и театр Диониса, прилепившийся к его склону, и построенный почти одновременно с Парфеноном «Гефестион», и колоннады гимнасия — все как бы подготовляло, наращивало в структуре города то начало, которое с такой полнотой выразилось в Акрополе.
Созданный заново, Акрополь не только олицетворял представление о величии афинской морской державы, но и стал, по замыслу его создателей, памятником, воплощающим этические и эстетические принципы эллинской культуры в целом. Конечно, это было связано с претензией Афин на общегреческую гегемонию, но с точки зрения эстетической строители Акрополя
создали действительно совершенное общеэллинское творение. Широкое привлечение мастеров со всей Греции, сознательно проводимое сочетание дорического и ионийского ордеров позволили со всесторонней полнотой воплотить эстетические идеалы классической Греции.
Афиняне располагали по тогдашним масштабам большими материальными средствами. Однако ансамбль Акрополя не производит впечатления чрезмерной грандиозности и роскоши. Чувство соразмерности определило весь облик акропольского ансамбля. Создавая центр Афин, мастера Акрополя как бы воплощали в зримых образах тот принцип духовной культуры афинской демократии, который был сформулирован в словах Перикла: «Мы любим мудрость без изнеженности и красоту без прихотливости». Масштабы храмов и монументальных статуй не подавляли человека своей величиной, а были соразмерны ему, создавали героизованно-радостную среду, утверждающую его достоинство.
Ансамбль образовывался из нескольких сооружений, созданных в таких пропорциях и размещенных в таких пунктах, что, вступая в зрительное взаимодействие друг с другом, они создавали богатую, последовательно развивающуюся архитектурную композицию. Общую логику ансамблевой планировки Акрополя можно наиболее полно воспринять, уловив ее связь с маршрутом движений торжественных процессий, связанных с культом Афины — покровительницы города. При решении задачи учитывалась и конфигурация вытянутого с запада на восток холма.
С западной стороны участника процессии встречает торжественно строгий дорический портик Пропилей, оформляющий вход на Акрополь. Контрастно к торжественной строгости Пропилей выступает облик маленького ионийского храмика Ники Аптерос, он возвышается справа на могучем отвесном бастионе, выступающем несколько вперед перед Пропилеями. Некоторая строгость дорических Пропилей как бы приостанавливает процессию и вводит ее в особый мир — «архитектурный космос» Акрополя. Но она образно дополняется светлой радостностью выступавшего вперед храмика бескрылой Ники («Победа» не могла иметь крыльев, чтобы не улететь из Афин), легко и непринужденно господствующего над массивом бастиона, сияя своей белизной на фоне неба. Когда путник вплотную подступает к входу в Пропилеи, храмик Ники исчезает из его поля зрения. Но гармонический контраст дорического и ионийского ордеров вновь возникает перед его глазами уже в другом варианте. На смену строгой дорической колоннаде портика выступают четыре стройные ионийские колонны, поддерживающие внутреннее перекрытие Пропилей. Перед вступившим на Акрополь участником процессии возникала бронзовая статуя Афины Промахос — воительницы, охранительницы города. Согласно преданию, блеск золоченого наконечника копья, которое держала в руке Афина, был виден мореплавателям уже у мыса Сунион — наиболее выступающей в море части аттической земли. Судя по остаткам фундамента, возможно, постамента Афины, есть основания полагать, что статуя была поставлена не фронтально перед выходом из Пропилей, а под некоторым углом. По мере
106
приближения путника к статуе ему раскрывается вид на храм Афины-девы Парфенон1, причем с наиболее пластически выигрышной точки зрения (примерно под углом в 45 градусов). То, что эта точка зрения является основной, подтверждается и тем, что центр мягкой выгнутости широкой лестницы, ведущей к Парфенону, именно с этой точки зрения совпадает с центром фасада и вершиной аналогичной кривой стилобата. Парфенон стал совершеннейшим созданием греческой классической архитектуры. Он величественно возвышается над Акрополем подобно тому, как сам Акрополь возвышается над городом и его окрестностями. Более того, с большинства точек зрения зритель, находящийся в городе или приближающийся к нему, воспринимал Акрополь в основном как сочетание массивного скалистого холма-постамента и господствующей над ним величаво-торжественной колоннадой храма. Лишь при подходе к Пропилеям Парфенон исчезал из поля зрения, и начинала «работать» тонко продуманная последовательность ансамблевых сопоставлений.
В основу образного воздействия Парфенона легли героизация и возвеличение человека. Соразмерное человеку, легко обозримое с первого взгляда, сооружение полностью соответствовало эстетическим идеалам классики. Колонны Парфенона поставлены чаще, чем в ранних дорических храмах, антаблемент облегчен, поэтому кажется, что колонны легко держат перекрытие. Незаметные для глаза курватуры горизонтальных линий стилобата и антаблемента, а также почти невидимые наклоны колонн к центру исключают всякий элемент геометрической сухости, придавая архитектурному облику здания жизненность и органичность. Эти легкие отступления от геометрической точности были результатом продуманного расчета. Центральная часть фасада, увенчанного фронтоном, зрительно давит на колонны и стилобат с большей силой, чем боковые стороны фасада, а совершенно прямая горизонтальная линия основания храма казалась бы зрителю слегка прогнутой. Поэтому для коррегирования оптического эффекта поверхность стилобата и другие горизонтали храма делались несколько выгнутыми. Этой же цели служат и другие оптические поправки, введенные архитекторами в ясный и упорядоченный строй периптера.
Благородство материала, из которого был построен Парфенон, позволило применить обычную в греческой архитектуре раскраску только для подчеркивания конструктивных деталей здания и для образования цветного фона, на котором выделялись скульптуры фронтонов и метоп. Так, были применены красный цвет для горизонталей антаблемента и фона метоп и фронтонов и синий — для триглифов и других вертикалей в антаблементе; праздничная торжественность сооружения подчеркивалась узкими полосками сдержанно введенной позолоты.
Поскольку главный вход в храм находился со стороны восточного фасада, процессия афинян, несущих дары Афине, не останавливалась у западного фасада, а, обтекая храм, направлялась дальше. При определении направления маршрута строители располагали двумя вариантами решения. Они могли направить процессию вдоль западного фронтона и затем повести ее по южной стороне Парфенона. Но в таком случае маршрут усложнялся резким поворотом вправо, и затем он должен был проходить в узкой полосе, расположенной между колоннадой храма и крутым обрывом холма Акрополя. При этом исключалась возможность зрительного сопоставления Парфенона с другими сооружениями ансамбля. Более удобным и художественно эффектным являлся маршрут вдоль северной стороны Парфенона. Дорога в этом случае проходила примерно по середине холма, поскольку Парфенон был сдвинут вправо с воображаемой оси, разделяющей плато холма. Подойдя вплотную к длинной северной стороне Парфенона, участник процессии видел слева и чуть впереди живописный Эрехтейон. Архитектурный образ Эрехтейона в противоположность монолитности Парфенона складывался из асимметрического сочетания нескольких архитектурных объемов. Живописная асимметричность Эрехтейона формально была обусловлена тем, что он объединил в себе несколько древнейших святилищ, но эта необходимость была превращена неизвестным зодчим в художественное преимущество. Он мастерски реализовал возможность контрастно гармонического сопоставления в пределах ансамбля Акрополя величаво монументального, кристаллически ясного Парфенона и непринужденной группировки объемов Эрехтейона. Кстати, подобный характер контрастного сопоставления проявился и в противопоставлении дорической колоннады Парфенона изящной стройности ионийских колонн Эрехтейона. Вместе с тем в Эрехтейоне нашло свое воплощение и то более дифференцированное, артистически утонченное ощущение архитектурного образа, которое было свойственно некоторым художественным тенденциям конца зрелой классики и подготавливало ее переход к следующему этапу эволюции. Мастер Эрехтейона применил при решении композиции отдельного здания тот принцип свободной гармонии и незеркального равновесия, который был положен в основу общего планировочного решения архитектурного ансамбля Акрополя в целом. Однако его применение именно в пределах одного здания было новым моментом в развитии зодчества. Композиция Эрехтейона слагалась из трех объемов. Первый, прямоугольный, увенчанный двускатной крышей, с отодвинутым от стены ионийским портиком, являлся основным архитектурным объемом. На западной торцовой стене ему соответствовал портик из полуколонн, непосредственно вдвинутый в стену целлы. К западному фасаду основного здания с севера примыкало небольшое помещение с резко выдвинутым вперед портиком из двух рядов стройных ионийских колонн. С этой точки зрения колонны портика вырисовывались на фоне неба и словно купались в пронизанном светом воздухе, контрастно противостоя развернутым на фоне мраморной стены полуколоннам
1 Строителями Парфенона были Иктин и Калликрат. Они начали строительство в 447 г. до н. э. и закончили его в 438 г. до н. э. Скульптурные работы на Парфеноне Фидия и его помощников продолжались до 432 г. до н. э. Парфенон имеет по 8 колонн по коротким сторонам и по 17 — по длинным; общие размеры здания 31х70 м, высота колонн — 10,5 метра. Храм выстроен из квадров пентелийского мрамора, сложенных насухо.
107
западного фронтона главного здания. На фоне же длинной глухой мраморной южной стены Эрехтейона выступал небольшой портик, в котором колонны были заменены величаво изящными фигурами кор-кариатид, поддерживающих карниз портика. Так, художественно выявлялась скрытая ассоциация между прямо стоящей колонной и человеческой фигурой, что дополнительно обогащало художественную выразительность ансамбля. Вместе с тем непринужденный покой, в котором пребывали величавые коры, контрастно оттенял драматическую энергию борющихся пар, расположенных на метопах Парфенона.
Сочетание дорического и ионийского ордеров помогало усилить пластическую выразительность ансамбля в целом. При этом оно не сводилось только к сопоставлению сооружений дорического и ионийского ордеров. Характер связи и слияния обоих ордеров был сложнее. Действительно, при подходе к Акрополю сначала возникало выразительное сопоставление в единой архитектурной картине дорических Пропилей с ионийским храмиком Ники. Вслед за тем, войдя в Пропилеи, зритель воспринимал сочетание ионийского ордера с дорическим и в пределах самих Пропилей. Перед вступившим на землю Акрополя путником снова возникало сочетание ионийского западного портика Эрехтейона и могучей колоннады дорического периптера Парфенона. Однако, подойдя ближе к Парфенону, зритель убеждался, что дорическая оболочка парфеноновского периптера сочеталась с ионийским фризомзофором, обтекающим стены целлы храма. Когда с расположенной перед восточным фасадом Парфенона площадки для жертвоприношений человек вступал внутрь храма, он мог увидеть, что и внутренняя колоннада, обрамляющая с двух сторон опистодом, была выполнена в ионийском ордере. Это сочетание дорического и ионийского ордеров не только обогащало пластическое убранство архитектуры (фриз Парфенона), но и создавало особо богатое и гармоничное, совершенное архитектурное решение как Акрополя в целом, так и отдельных зданий.
Следует отметить также и еще некоторые важные черты, присущие акропольскому ансамблю. Отказ и в архитектурной планировке от симметрического фронтального равновесия объясним тем, что его применение внесло бы чуждую классике атмосферу неподвижности. Вместе с тем последовательность развертывания звеньев ансамбля тесно связана с функциональным назначением Акрополя как той цели, к которой стремятся и в которой исчерпывают себя народные шествия. Все элементы ансамбля расположены с учетом маршрута шествия и соответствующим образом эстетически его оформляют и направляют.
Существовали также и дополнительные точки зрения, связанные с более детальным обходом Акрополя. Так, при возвращении от Парфенона к Пропилеям зритель в новом соотношении мог сопоставить выходящий на Акрополь портик Пропилей с ионийской колоннадой храмика Ники.
Кульминация развития пластических образов ансамбля осуществлялась в скульптурах Парфенона. Временной порядок восприятия монументальных скульптур Акрополя носил примерно такой характер: при выходе из Пропилей зрителя поражал величественный образ бронзовой Афины, затем он воспринимал хотя тесно связанные с плоскостями архитектуры, но почти круглые скульптуры западного фронтона и обрамленные триглифами скульптуры метоп. Далее рельефные композиции метоп пластически сопоставлялись с отделенными от стены круглыми скульптурами кор Эрехтейона. Одновременно, когда процессия проходила вдоль стен Парфенона, внимание участников шествия сосредоточивалось на сопоставлении пластически замкнутых в себе квадратных скульптурных композиций метоп с ритмически развертывающимися за колоннадой периптера плоскими рельефами фриза. Остановившись перед главным восточным фасадом, процессия созерцала торжественную скульптурную композицию фронтона. Последовательное восприятие пластических образов завершалось созерцанием помещенной внутри храма спокойно-торжественной культовой статуи Афины-девы, выполненной из золота и слоновой кости.
Изящные скульптурные рельефы, украшающие храмик Ники Аптерос или как бы стремительно скользящие по фризу Эрехтейона фигуры воспринимались уже вне общего потока торжественной процессии и были рассчитаны на более индивидуальное общение зрителя с художественным образом.
Общественное и культовое назначение Акрополя отражалось и в отборе тем. Так, господствующая над Акрополем, видная с любой точки города статуя Афины Промахос-воительницы напоминала о божественном покровительстве, которым пользовался полис, и вместе с тем метафорически воплощала идею о его военной мощи. Композиция западного фронтона посвящалась спору Афины с Посейдоном за обладание аттической землей (создав оливу, игравшую большую роль в сельском хозяйстве Аттики, Афина утвердила свое право на владение Аттикой). Метопы, расположенные под западным фронтоном, были посвящены теме битвы греков с амазонками, также связанной с мифической историей Аттики (согласно легенде, Тесей отразил нападение амазонок на Афины). Метопы южной стороны были посвящены в основном кентавромахии (всего 24 из 32), то есть теме, связанной с идеей победы человеческого разума над стихийнозвериной силой. В середину ансамбля южных метоп было введено восемь композиций, посвященных мифу об Ионе — мифическом предке афинян. Метопы северной стороны, вдоль которой двигалась процессия, до нас почти не дошли. Вероятно, на них развертывались две темы. Сначала шло несколько метоп, возможно, посвященных совету богов (в одной метопе можно узнать Геру и Афину). Основная же группа композиции изображала взятие Илиона — тема, которая в сознании греков, особенно после войны с персами, ассоциировалась с победой эллинства над восточной деспотией. Фриз, обтекающий с наружной стороны стены храма, воспринимался участниками процессии сквозь колоннаду как ряд отдельных, расчлененных колоннами его прямоугольных отрезков. Вместе с тем именно скользящее смещение отрезков, видимых сквозь колонны форза, давало возможность ощутить его как единый поток движения. Фриз изображал в героизованном виде праздничное шествие больших Панафиней, справляемых раз в четыре года в честь
108
Афины. Так, в систему мифических образов вводился и образ афинского народа в момент его обращения к покровительнице родного города.
Глубокий смысл имел и выбор тем для обоих фронтонов. Если западный фасад был посвящен мифической истории Афин (как на фронтоне, так и на метопах), то восточный, главный фасад, перед которым возносили жертвы, где находился вход в жилище бога, был посвящен олимпийским богам и рождению Афины. Более всеобщий — космический характер образов восточного фасада был выражен и в метопах на тему гигантомахии, победы светлых человеческих богов над предшествующим им миром стихийных сил.
Именно этот ансамбль скульптур Парфенона, составляющий вместе с архитектурным образом храма богато расчлененное единство, следует рассматривать как высший взлет эллинского гения, как кульминацию искусства зрелой классики. Редко в истории искусств прошлого возникал памятник, который с такой последовательностью воплощал высшее совершенство и полную зрелость стиля. Но как и в последующие эпохи, период высшего расцвета классических стилей являет скорее переходный момент, а не длительное состояние. Ведь равновесие, гармония, как и покой, — это частный момент в истории искусства прошлого, истории вечного движения, становления и распада, а в самом распаде — зарождение нового движения вперед. Да и сама основа трагически противоречивого, конфликтного развития человеческого общества в прошлом не давала оснований для длительного, устойчивого расцвета гуманистических, всесторонне развитых, так сказать, счастливо-радостных культур классического типа.
Как мы уже упоминали, искусство Афин 450—430 гг. до н. э. развивалось в тот период, когда сильные стороны культуры рабовладельческого полиса уже раскрыли себя, а первые проявления его грядущего кризиса и распада лишь начинали давать себя знать. Не случайно ясно героические образы афинского Акрополя, как бы навечно утверждающие свои эстетические идеалы, создавались в годы, непосредственно предшествовавшие потрясениям Пелопоннесской войны, ускорившей наступление исторически неизбежного кризиса рабовладельческого города-государства, полисной культуры в целом.
Вернемся, однако, к скульптурам Парфенона для их более внимательного рассмотрения. Первыми по времени были созданы метопы храма. В сколько-нибудь цельной форме они сохранились только на южной стороне, то есть в цикле, посвященном изображению битвы греков с кентаврами. В них воплощены ситуации, завершенные в себе и вместе с тем входящие в состав большой тематической сюиты. В исполнении отдельных метоп ощущается различие индивидуальностей художников. Ведь Фидий вынужден был обращаться к помощи художников, и менее умелых и более связанных с традицией ранней классики, а иногда предвосхищающих последующий этап развития искусства. Лишь в дальнейшем в процессе работы над зофором и во фронтонах Парфенона Фидию удается добиться относительного единства стиля.
В метопе № 31 трактовка сплетшихся в схватке тел кентавра и лапифа отличается несколько большей жесткостью, введением натуральных деталей — показаны набухшие вены на руке и на теле кентавра, изображены очень схематически, обобщенно гримасы гнева и боли на маскообразном лице кентавра. И сама композиция метопы отличается статичностью.
Иной характер носит метопа № 28, изображающая вставшего на дыбы кентавра над поверженным телом грека. Ей свойственны черты, присущие искусству именно зрелой классики: пластическая свобода трактовки формы, выразительная обобщенность движения, композиция, дающая возможность свободно, непринужденно развернуться буйному движению кентавра и вместе с тем естественно вписать его в поле квадрата. Кроме того, высокой трагичностью отличается и само образное сопоставление стремительно ликующего движения кентавра и безжизненно рухнувшего наземь грека. Следует отметить, что чередование мотивов жестокой схватки с неопределившимся исходом, гибели грека, торжества мужественной воли эллина над кентавром придают особую целостность всей этой части метопного фриза. Каждая из пар и замкнута в отведенном архитектурой поле композиции и одновременно составляет часть более широкой и общей картины битвы.
Для лучших метоп характерно умение преодолеть ту несколько жесткую дисциплину подчинения образа архитектурным формам целого, которая ощущается еще в метопах храма Зевса в Олимпии. Так, в метопе № 7 движение тела лапифа, стремительным рывком хватающего за горло испуганно откинувшегося кентавра, свободно развивается по внутренним законам движения — действия человеческого тела. Ритм его движения как бы не соотносится с архитектурным ритмом квадрата метопы (горизонталь, вертикаль, диагональ), и вместе с тем порыв грека не выплескивается за пределы отведенного архитектурой поля, его движение исчерпывает себя в пределах композиции метопы сопротивлением борющегося с ним кентавра. В метопе № 27 равновесие в изображении грека, схватившего за волосы вырывающегося от него кентавра, достигается тем, что центробежное, грузно стремительное движение кентавра и ликующе победоносный порыв грека взаимно уравновешивают друг друга, создавая полную упругого напряжения композицию. В ней противонаправленные и разнохарактерные движения уравновешивают друг друга. Вместе с тем как раз метопа № 27 несет в себе и некоторые черты, предсказывающие возможность выхода искусства зрелой классики за свои пределы. В развернутом на зрителя красивом повороте тела нагого грека, эффектно оттененного спадающими складками его плаща, едва уловимо угадывается интерес к зрительному эффекту, к несколько театрализованной подаче образа, что в целом глубоко чуждо классике и получило свое развитие в классицизирующих направлениях искусства IV в. до н. э. В какой-то мере этот пластический мотив соотношения развернутого на зрителя прекрасного тела и образующего эффектный фон драпировки был использован в IV в. до н. э. Леохаром в «Аполлоне Бельведерском».
Хотя фигуры на метопах невелики по размерам в сравнении с мощным массивом архитрава и вертикалями триглифов, их одухотворенная динамичность,
109
выразительная пластическая моделировка с достаточной силой концентрировали на себе внимание зрителя. Судить об этом можно по оставшейся на своем месте угловой метопе, на которой изображен кентавр, душащий лапифа.
Вслед за метопами был создан фриз. Он посвящен изображению праздничного шествия афинского народа, несущего в дар богине сотканный афинскими девами праздничный пеплос. Фидий прибег к композиции, сочетающей богатство и многообразие мотивов движения с классической завершенной замкнутостью целого. Фриз начинался с изображения сборов процессии — показывалось постепенное зарождение движения. Далее развертывался поток самой процессии, исполненной пульсирующего ритма, то убыстряющегося, то замедляющегося движения. В заключительной части композиции, где постепенно приобретающий все большую торжественную медлительность ритм движения как бы исчерпывал себя, участники шествия передавали свои подношения жрецам. Венцом всей композиции является изображение на восточном фасаде олимпийских богов. Таким образом, ритмическая организация композиции составляет схему: от покоя к движению и снова к покою. Однако то состояние уравновешенного покоя, к которому возвращается изображение шествия, не повторяет начальной стадии. Его начало — это зарождение движения. От фигур юношей, поправляющих повязки сандалий, подготавливающих коня, оно переходит к началу движения всадников, затем — паузы, затем — снова движение, и, наконец, тема шествия окончательно утверждает себя в неудержимом потоке процессии. Покой олимпийских богов, к которому, замедляя свой ритм, приходит шествие, исполнен безмятежной ясности и торжественно-радостной одушевленности. Начало фриза расположено под западным фронтоном. Это и естественно, так как шествие больших Панафиней приближалось к Парфенону с западной стороны. Далее, однако, возникла своеобразная трудность: ведь сама процессия должна была изображаться на двух потоках-лентах. Один опоясывал северную длинную сторону храма, другой шел по его южной стороне. В связи с этим перед Фидием возникали известные композиционные сложности. Он мог начать движение от центра западного фронтона, ведя его вправо и влево. С точки зрения сюжетной и смысловой это произвело бы странное впечатление двух шествий, направляющихся в противоположные стороны. Кстати говоря, необходимости в такой фронтальной зеркально-симметрической композиции в классическом искусстве и не было. Фидий учел, что процессия, минуя западный фронтон, обходила храм с северной стороны, и в соответствии с этим реальным маршрутом процессии развертывал рассказ от правого (то есть южного) угла западного фронтона к его северному углу. Только несколько фигур справа намекают на возможность развертывания движения фриза и по южному направлению. Таким образом, основное движение фигур фриза естественно переходит в поток торжественного шествия по тому же направлению, по которому двигалась процессия афинян.
Передача самого движения была свободна от монотонности. Несмотря на частичное возобновление того или иного мотива движения, дающего ощущение единого упорядоченного потока шествия, ни одна фигура буквально не повторяет другую. Этому же впечатлению разнообразия движений способствует ритмическая организация изображения, когда мастер то убыстряет, то замедляет темп движения, сменяя группы всадников группами юношей, ведущих жертвенных животных, несущих вазы с дарами, вводя группу дев с их приношениями.
Кроме смены темпа движения, Фидий применяет прием смены частоты расположения фигур на фризе: они даются то более скученно, то более разреженно. Собственно, этими двумя приемами и ограничивается создание пульсирующего ритма движения на фризе. При этом ритм смены разрежения и сгущения фигур не совпадает с ритмом убыстрения и замедления движения. Этот простой прием приводит к созданию бесконечного разнообразия все новых и новых вариантов взаимоналожений этих двух ритмических решений. Фриз на южной длинной стороне целлы сохранился хуже, но в целом и он передавал подобное ощущение нарастания и постепенного затухания движения.
Надо заметить, что в отличие от метоп стиль фриза более целостен, в нем нет кричащих стилистических противоречий. Вместе с тем при всем стилевом единстве, достигнутом во фризе, все же иногда можно уловить известное различие в творческой манере исполнителей. Так, группа всадников западной части фриза выполнена с большей живописной свободой моделировки, с более непринужденной и богато дифференцированной манерой изображения драпировок и интенсивной игрой светотени, чем более строгие и архитектонически ясные по своему построению фигуры дев ближе к восточной части фриза. Их драпировки также отличаются более строгой и холодной графической манерой изображения. В трактовке голов некоторых из изображений мы угадываем тот интерес к патетической экспрессии и беспокойно динамической игре светотени, который таит в себе возможности выхода за пределы ясной гармонии высокой классики и воспринимается нами как провозвестник патетического искусства Скопаса.
Сюита скульптурных композиций фриза увенчивается группами фронтонов. К сожалению, фронтоны, особенно западный, плохо сохранились. Правда, некоторое представление о них дают перефразировки в античной вазописи или интерпретации скульптур римского времени, как, например, «Мадридский путеал» (ограда водоема). Большое значение имеют и зарисовки, приписываемые французскому художнику XVII века Каррею, выполненные до взрыва порохового склада в Парфеноне1. Рисунок западного фронтона дает нам хотя бы относительное представление о его композиции. Судя по этому рисунку, в композиции фронтона, отличающейся общей уравновешенностью масс, Афина и Посейдон были изображены в стремительном движении. При этом они находились в непосредственной близости от центральной оси фронтона, но ни одна из фигур не находилась на центральной оси
1 Во время осады Афин (1687 г.), находившихся во власти турок, бомба попала в пороховой склад, расположенный в самом Парфеноне.
110
симметрии. Отчасти это могло быть обусловлено культовыми соображениями — желанием избегнуть того, чтобы одно из двух олимпийских божеств занимало явно господствующее, центральное положение, а другое — подчиненное положение.
Большее значение имел, видимо, собственно художественный момент: бурное движение было направлено от центра к краям. В свою очередь оно уравновешивалось направлением движения боковых фигур от углов фронтона к центру, что создавало сложную, полную динамики композицию, свободную от симметрической статичности и вместе с тем гармонически вписываемую в треугольник фронтона. Композиция восточного фронтона, посвященная рождению Афины из головы Зевса, судя по всему, также была лишена фигуры, четко помещенной по центральной оси. Вместе с тем само движение во фронтоне от центра к краям и от края к центру носило более сложный характер. Так, например, отсутствовали симметрично расположенные по краям фигуры, движения которых были бы четко направлены к центру, как мы видели это во фронтонах храма Зевса в Олимпии. Вкомпоновка фигур в пределы фронтона осуществлялась путем постепенного успокоения движения по мере приближения к углам.
Поучителен образный замысел восточного фронтона. Фидий подчеркивает универсальное значение происходящего события — рождение божества. Треугольник фронтона как бы уподобляется небосводу, охватывающему землю. В левом углу видны головы коней — подымающейся колесницы утренней зари или, возможно, колесницы Гелиоса. Ее и встречает как бы пробуждающаяся к жизни фигура Кефала1. В правом углу изображены уходящие за его грань кони богини ночи Никс. Тем самым в композицию фронтона иносказательно включено все мироздание. Изображено как бы одно мгновение — уход ночи и приход зари, — и вместе с тем воображаемая траектория охватывающего небосвод полета божественных колесниц создает ощущение круговорота суток, включивших в себя чудо рождения Афины.
В статуях обоих фронтонов ваяние зрелой классики достигло своего наиболее высокого воплощения. Пропорции тела Кефала героически прекрасны — благородная пластика движения совершенного человеческого тела передана с монументальной ясностью. Вместе с тем весь характер движения Кефала свободен от нарочитой торжественности. По существу, изображен человек, переходящий к движению из состояния отдохновенного покоя. Такая полулежащая фигура взята прямо из жизни, но Кефал свободен от «сниженной» жанровости образа. С безошибочной точностью выбран тот оттенок поворота, то расположение полулежащей фигуры, при котором с наибольшей полнотой раскрываются гибкость движений совершенного развитого человеческого тела, благородная гармония его пропорций, красота его спокойной одушевленности. Отсюда и ощущение одновременно жизненной непосредственности и универсальной, всеобщей типичности образа.
Следуя традициям, установленным Поликлетом и Мироном, мастера фронтона четко выявляют объемную пластическую структуру форм человеческого тела, его могучую конструкцию. Вместе с тем они с необычайной свободой передают ощущение живого движения мышц, легкой, свободной игры бликов света и тени, окутывающих тело. В еще большей мере все эти качества раскрываются в фигурах трех мойр — богинях судьбы2. Особенно выразительна юная полулежащая дева, облокотившаяся о колени своей сидящей подруги, — почти жанровый в своей лирической интимности мотив. И вместе с тем обобщенная выразительность передачи движений, героическая красота пропорций тел придают лирическому мотиву величавое монументальное звучание. Вновь единство лирического и героического, интимного и возвышенного получает свое совершенное воплощение.
Мойры и Кефал взаимосвязаны аналогичным композиционным расположением в правой и левой сторонах фронтона. Героической наготе Кефала противопоставлена красота прекрасного женского тела, угадываемого сквозь легкую и живую игру драпировок одежд. Эта игра образует своеобразное ритмическое развитие, в какой-то мере подобное законченному циклу ритмов движения в зофоре больших Панафиней. У первой богини, сидящей чуть в стороне, драпировки соответственно с ее более торжественной позой трактованы с величавой свободой. Широкий ритм складок на ее коленях как бы подхвачен в вязком и мощном движении ткани вокруг колен второй сидящей фигуры. У полулежащей третьей фигуры прозрачная ткань, нежно окутывая формы тела, струистыми складками легко стекает книзу. Подобно тому как у порогов горного потока движение волн становится более бурным, так и здесь у перехваченной легким поясом талии движение драпировки становится более беспокойным. Затем в легко стремительном ритме движения ткань ниспадает к ногам, где бег ее складок замедляется, движение драпировок становится снова широким, спокойным, более пластически сочным и окончательно успокаивается у ног юной богини. Музыкальное богатство движения, мерцания складок придает удивительное поэтическое очарование всей группе. Свободное и богатое соотношение форм тела и окутывающих его одеяний, то легких и как бы обтекающих объем, несущих отзвук движений упругого живого тела, то тяжело спадающих и как бы подчиняющихся своему весу, контрастируя с радостной динамикой жизни тела, вообще характерно для классики. Здесь оно находит, пожалуй, свое наивысшее выражение. Фигура полулежащей богини как бы соответствует фигуре Кефала, ее также отличает сочетание свободной непринужденности движения и монументальной ясности. Особенно выразителен мотив рукава, спустившегося с плеча богини и обнажающего красоту ее тела. Этот лирический и как бы случайный мотив вносит ноту естественной теплоты и непринужденной жизненности во всю композицию, не разрушая общей монументальной величавости целого.
Одной из важных особенностей восточного фронтона является своеобразное решение проблемы движения
1 Большинство исследователей теперь считают эту фигуру изображением Диониса.
2 В настоящее время большинство исследователей склонны видеть в этой группе изображение Афродиты, ее матери Дионы и Пейто.
111
скульптуры в окружающей пространственной среде. Ранее в большинстве случаев, если скульптура должна была изображать достаточно энергичное движение, мастер стремился развернуть его вдоль плоскости фронтона, чтобы сохранить поверхность стены, ясную цельность строения храма. Такой метод решения характерен не только для эгинских или олимпийских фронтонов. В какой-то мере он оказывает свое влияние и на композиции западного фронтона Парфенона, где бурное движение как бы подчинялось идеальной плоскости тимпана. Так, движение группы Кекропа и Пандоры, несмотря на свою стремительность, не создавало глубоких пространственных ракурсов. В этом отношении и фигуру полулежащего Кефиса при всей гибкой текучести мотива движения, богатстве пластической моделировки отличают от Кефала меньшая свобода и непринужденность расположения человеческого тела в пространственной среде1. Фигуры же восточного фронтона в своих движениях как бы свободны от необходимости быть связанными с отведенной для их жизни архитектурной средой и плоскостью фона.
Фигуры не «привязываются» назойливо к стене, как это делают сегодня иные скульпторы и живописцы, сводящие тем самым задачи монументального синтеза к декоративному украшению стены, часто ведущему к пластическому и идейному обеднению целого. И все же движение каждой фигуры не направлено к стене вглубь от зрителя. Оно не разрушает ее, а идет от стены, от ее плоскости к зрителю. Их жизнь в пространстве развивается как бы в одном направлении. Но это воспринимается не как нарочитое подчинение тела плоскости, а как результат естественно развивающегося, живого движения каждой фигуры. Гармоническое сложение композиции в одно ясно обозримое целое, свободное содружество жизни скульптурных образов с логикой архитектурной среды выступают здесь как некий естественный результат. Скульптурный ансамбль Парфенона является вершиной того синтеза скульптуры и архитектуры, к которому стремилась художественная культура классики. Он представляет собой одно из наиболее совершенных воплощений эстетического принципа радостной гармонии частного и общего, индивидуального и коллективного, единичного и целого. В дальнейшем эта гармоническая целостность, естественное равновесие, казалось бы, противоположных принципов будут разрушены. В период поздней классики лирическое начало начнет обосабливаться от героического, интимное и бытовое — от монументального, получив, правда, в этой самостоятельности большую выраженность. Попытки же воссоздания их былого единства все более будут приобретать характер отвлеченной идеализации. Исчезнет и тот героически радостный дух утверждения способности человека через преодоление противоречий и контрастов достигать красоту и гармонию. Высокая красота таких образов вызывает в нас радостное чувство, стремление человека в нашу эпоху к всестороннему гармоническому развитию, к полноте бытия, обусловливает это влечение к великому эллинскому искусству.
Как уже упоминалось, большие культовые статуи Фидия не дошли до нас, а имеющиеся римские копии весьма недостоверны. Однако, поскольку они занимали важное место в ансамбле Акрополя, необходимо все же в какой-то мере представить себе то понимание монументального образа, которое было в них выражено. Из двух знаменитых статуй Афины Промахос и Афины-девы Парфенос сначала была создана первая. Судя по описаниям и некоторым аналогиям, ее голова была дана в повороте. Богиня как бы окидывала взором горизонт, охраняя подвластный ей город. Афина вступала, таким образом, во взаимодействие (очень сдержанно выраженное) с окружающим миром. Тем самым снимался отвлеченно предстоящий характер культовой статуи.
Статуя Афины Парфенос была выполнена, вероятно, после завершения работ над Парфеноном. Некоторое чрезвычайно приблизительное впечатление о том, как выглядела Афина Парфенос, дают несколько небольших реплик римского времени и сохранившиеся описания, в частности Павсания и Плутарха. Афина Парфенос была изображена фронтально, на голове — шлем, увенчанный фигурами грифонов. На протянутой правой руке, опирающейся на постамент, стояла фигурка Ники. Левая рука Афины покоилась на прямо поставленном щите, на котором была изображена битва греков с амазонками. Согласно легенде на щите среди сражающихся Фидий поместил отмеченное портретным сходством изображение Перикла и свой собственный автопортрет.
Культовая храмовая статуя отличалась торжественной величавостью. Она была выполнена в хрисоэлефантинной технике. Вероятно, эффект сочетания золота и слоновой кости привносил оттенок некоторой холодной парадности. Греки могли полагать, что такое впечатление при восприятии культового образа было уместно. Следует также учесть, что статуя Афины находилась внутри помещения, полумгла которого несколько смягчала контрасты белого и золота и ослабляла блики металла, деформирующие пластическую форму. Вместе с тем есть основание полагать, что цвет золота был дифференцирован. Это помогало разнообразить пластическую форму и преодолевать однородную монотонность его равномерного насыщенного блеска.
Подтверждением такому предположению служит небольшой фигурный лекиф аттической работы последней четверти V в. до н. э., найденный при раскопках в Тамани и ныне хранящийся в Эрмитаже. Изящный сосуд-статуэтка изображает сидящего сфинкса. Лекиф является своего рода шедевром малой керамической пластики. Нежно-алый, украшенный легким узором, цвет постамента утонченно сопоставлен с мягким сочетанием оливкового и зеленовато-серого цвета упругих крыльев. Нагая грудь и голова тонированы под слоновую кость. Нежно подкрашены розовым и алым щеки и губы — прием, характерный для полихромии античной скульптуры. Чистота и ясность пропорций и пластических объемов придают некоторую монументальность этой изящной фигурке. Ее ритмы, ее
1 В настоящее время трудно сказать, является ли эта тонко соотнесенная нетождественность решений результатом единого замысла или следствием работы нескольких разных по мастерству учеников Фидия. Первое высказанное предположение, конечно, заманчивее.
112
образный характер ясно читаются с расстояний относительно очень больших по сравнению с небольшими размерами фигурки.
Особенный интерес в данном случае вызывает следующий момент: ожерелье, волосы, стекающие упруго завитыми косами на плечи, диадема с розетками, увенчивающая ее голову, позолочены. Однако нежносветлое золото ожерелья иное, чем более густое, червонного тона золото ее кудрей; золото диадемы дано также в ином тоне. Причем золотой тон диадемы отличается от золота украшающих ее декоративных розеток. Благодаря этому разнообразию золотого тона художник достигает большой пластической дифференциации форм и заставляет золото выполнять здесь роль цвета.
Не исключено, что близкая по стилю и по времени Фидию фигурка «Таманского сфинкса» в какой-то мере повторяет прием, осуществленный Фидием в статуе Афины Парфенос. Надо также отметить, что в наиболее тонких и изящных ювелирных изделиях из золота, хранящихся в Эрмитаже, также иногда применяется золото разных тонов. Это достигается в основном использованием золота разной пробы, а в случае со сфинксом — и разной плотностью наложенного слоя.
В связи со статуей Афины Парфенос хотелось бы затронуть еще одну проблему. Как уже упоминалось, Фидий дал портретное изображение Перикла и свой автопортрет, за что был обвинен консервативными кругами демократического полиса в неуважении к богам. «Над Фидием, — по словам Плутарха, — тяготела зависть к славе его произведений, особенно за то, что, вырезая на щите сражение с амазонками, он изобразил и себя самого в виде плешивого старика, поднявшего камень обеими руками; точно так же он поместил тут и прекрасный портрет Перикла, сражающегося с амазонкой. Рука Перикла, державшая поднятое копье перед лицом, сделанная мастерски, как будто хочет прикрыть сходство, но оно видно с обеих сторон»1. Трудно судить, в какой мере Фидий пошел в изображении портретного сходства далее передачи самых общих черт и в какой мере все это не является плодом фантазии авторов поздней античности. Во всяком случае, вплоть до 420-х гг. до н. э., как о том говорит, в частности, отвлеченно идеализированный образ Перикла в портретной герме работы Кресилая (дошла до нас в римской копии), передача индивидуального сходства не интересовала художников2. Продолжала жить та традиция, которая утвердила себя в как бы портретных по своему сюжету статуях атлетов типа «Дискобола» или «Дорифора». Все же не исключено, хотя и маловероятно, что в своей поздней работе Фидий уже проявлял интерес к самой элементарной передаче внешнего сходства, который на рубеже V и IV вв. до н. э. нашел свое выражение в творчестве Деметрия из Алопеки. Если это и так, то сочетание парадной отвлеченности и аллегорической усложненности композиции с «натуральными» эффектами может рассматриваться как один из первых признаков распада органической цельности монументального искусства периода зрелой классики.
Другие монументальные работы Фидия, упоминаемые древними (например, его храмовая статуя Зевса в Олимпии), не сохранились даже в сколько-нибудь надежных копиях. Известно лишь, что в лице Зевса была передана некая возвышенная благость. Видимо, здесь мастер внес тот оттенок самого общего состояния души, которая была связана с понятием схематы. В духе возвышенной жизненной одушевленности, характерной для скульптур парфеноновских фронтонов, выполнена приписываемая Фидию статуя амазонки, представление о которой дает римская реплика так называемой «Амазонки Маттей». Живая энергия фигуры амазонки особенно ясно выявляется по сравнению со сдержанным лиризмом схематы раненой амазонки — римской реплики с оригинала, приписываемого разными исследователями иногда Поликлету, иногда Кресилаю.
Своеобразный характер имело решение проблемы связи скульптурного образа с архитектурой в Эрехтейоне. Монументальные статуи кор выполняют функции колонн и поэтому должны были отличаться как колонны единообразием масштаба и пропорций. Вместе с тем, поскольку они одновременно представляли исполненные жизни образы человека, каждая из фигур должна была разниться еле уловимым, но явственным оттенком своего пластического состояния: чуть измененной характеристикой драпировок, иной постановкой полусогнутой в колене левой ноги, небольшим оттенком в посадке прямо стоящей головы. Это лишало образы кор ощущения монотонной безличности. При этом сохранялось единство ритма, форм и общности в мотиве движения. Тем самым в портике кариатид с благородной сдержанностью вновь осуществлялся принцип свободы от механического повтора, от унисонного однообразия.
Рельефные скульптуры, украшающие зофоры над портиками, отличались свободным развитием движения в пределах полосы фриза, общей живописной свободой композиции. В зофоре над северным портиком была своеобразно применена полихромия. Отказавшись от раскраски, мастер прибег к использованию цветных материалов. На фиолетовом мраморе плит выделялись сияющие белизной, исполненные легкой стремительности мраморные фигуры, создающие необычайно острый по своей декоративной выразительности живописный эффект.
Несколько иными были композиционные решения фриза на антаблементе и рельефов на балюстраде маленького храмика Ники Аптерос, довольно плохо сохранившиеся. Свободная непринужденность в расположении фигур, повышенная игра света и тени в драпировках создают полный мерцающего движения и легкой динамики образ, гармонирующий с повышенной светотеневой живописностью стройных колонн. Исполненные живописной динамики, рельефы храма предвещают переход к поздней классике. Особенно это ощущается во фризе антаблемента, посвященном эпизоду греко-персидской войны — битве при Платеях (на фризе также изображены боги).
1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., 1961, с. 218.
2 Это утверждение справедливо для периода зрелой классики. Что касается ранней классики, то сообразно с ее общим характером ряд исследователей усматривает в портретах передачу черт индивидуализирующего характера.
113
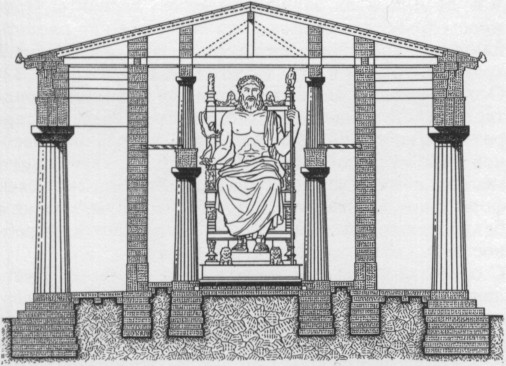
Целла храма Зевса в Олимпии со статуей Зевса работы Фидия. Реконструкция
Новизна фриза состояла не в выборе сюжета. Следует напомнить, что в общую систему мифических циклов Акрополя уже были введены темы исторической реальности. Так, на зофоре Парфенона было изображено шествие больших Панафиней, в расписной стое при Пропилеях на стене — битва при Марафоне. Однако героизированный обобщенный образ сражающихся, по существу, был близок облику персонажей мифологических композиций. Собственно же историческая конкретизация определенного эпизода битвы появится лишь на пороге эпохи эллинизма (например, мозаика «Битва при Гранике»).
Новизна художественно-образного решения фриза состояла, в сущности, в большей эмоциональности, своеобразной патетической взволнованности передачи хода битвы (подобные черты получат свое развитие в IV в. до н. э. во фризе Галикарнасского мавсолея). Это выражалось в беспокойном, стремительном ритме движений, в напряженных вспышках света и тени, в введении смелых для того времени ракурсов. Правда, само сопоставление во фризе храмика бурного кипения схватки и спокойной торжественности сонма богов еще связано с типичной для классики традицией уравновешенного контраста различных образно-эмоциональных состояний.
Однако в утонченном сопоставлении зыбкой подвижности фигур фриза, несколько большей медлительности движений исполненных пластической сочности рельефных фигур на балюстраде храма ощущается момент сознательного артистизма, самоценной художественности эффекта, который раньше не выявлялся с такой последовательностью. На балюстраде (411— 407 гг. до н. э.), окружающей храмик, были изображены фигуры крылатых Ник, прославляющих богиню Афину. Живая игра света и тени, сочетание гибкой стройности нежного тела с полупрозрачной игрой складок легкого хитона или бурной игрой светотеневых контрастов в более тяжелых драпировках пеплоса создают пронизанную то легкой, то более мощной динамикой цепь образов. Некоторые фигуры на балюстраде, как, например, «Ника, влекущая к жертвеннику быка», поражают стремительностью движения и сочностью светотеневых контрастов драпировок. Иной образной интонацией отличается полный лирического очарования мотив Ники, развязывающей свою сандалию перед алтарем. Естественная непринужденность гибкого движения, тонко найденный контраст между живописной игрой складок и нежной красотой просвечивающего сквозь ткань юного тела придают особое поэтическое очарование этому небольшому рельефу. Как и на фигуре юной богини с восточного фронтона Парфенона, у наклонившейся Ники рукав сползает с плеча. Но здесь сам мотив обусловлен конкретным движением Ники, развязывающей сандалию, и явственнее выступает более интимный, жанрово-лирический характер мотива. В какой-то мере он предвосхищает утонченный лиризм праксителевской линии в развитии искусства поздней классики.
Архитектура и скульптурные композиции Акрополя образуют в своей совокупности богато дифференцированное целостное художественное единство. Одновременно в скульптурных работах Акрополя мы можем проследить постепенную эволюцию искусства зрелой классики к большей интимности и большей живописной свободе трактовки скульптурного образа — рельефы фриза Эрехтейона, скульптуры на балюстраде храмика Ники. С другой стороны, можно наблюдать зарождение тенденций, приведших в своем развитии к созданию в IV в. до н. э. более монументально-отвлеченного и холодного искусства — некоторые метопы Парфенона и, вполне возможно, сама статуя Афины Парфенос.
Наконец, в отдельных мотивах фриза и храмика Ники можно уловить зарождение той динамической патетики, которая является далеким провозвестником смятенной патетики скопасовского искусства. В целом же, вплетенные в живой организм акропольского ансамбля, в общем созвучные тому принципу единства в многообразии, согласно которому он был задуман, эти скульптуры не разрушают ощущения удивительной цельности ансамбля. Однако поставленные в «контекст» более длительной перспективы исторического развития, они дают нам возможность угадать приближение нового этапа в искусстве. Действительно, 420-е гг. до н. э. — это время самых первых признаков кризиса полиса, время усталости от тяжелой Пелопоннесской войны, утраты былой героической целостности культуры ранней и зрелой классики и обретения более патетического, более личностного искусства.
Среди монументальных скульптурных работ Афин этого периода заслуживают упоминания метопы и фризы храма Гефеста (Гефестиона) на агоре, созданного в 440-х гг. до н. э. Скульптурное убранство и архитектура храма отличаются некоторой суховатостью и большей жесткостью исполнения, чем замечательные ансамбли Акрополя. Все же храм Гефеста принадлежит к значительным памятникам зрелой классики. Он был построен в дорическом ордере, хотя, как и на Акрополе, в него были введены мотивы ионийского ордера. Например, оба портика храма были украшены ионийскими фризами с рельефами кентавромахии и гигантомахии. Остатки фризов создают впечатление, что их композиция в целом складывалась скорее как
114
сумма отдельных эпизодов схватки, чем объединенное единым ритмом целое. Особенно выразительны немногие полусохранившиеся метопы, посвященные подвигам Тесея (борьба Тесея со Скироном и так далее). Двухфигурные композиции метоп во многом напоминают метопы Парфенона, хотя скульптор Гефестиона более склонен к подчеркиванию массивности форм, к брутальной передаче напряжения борьбы.
Новые черты в искусстве последней четверти V в. до н. э. сказываются в опытах передачи драматической скорби, акцентировки психологического состояния изображаемого героя, в интересе к более живописно свободной трактовке формы. Такова исполненная беспокойной игры светотени грустно-задумчивая девичья фигура из надгробия в Мнесарете. Отход от многогранной цельности парфеноновских образов ощущается в холодной ясности и четкой уравновешенности двухфигурной композиции надгробия Гегесо. Своеобразное сочетание более жанровой трактовки движения фигуры при одновременной идеализации образа было, по всей видимости, характерно для творчества мастера, создавшего «Афродиту», дошедшую до нас в римских копиях. Ее отличают использование разных точек зрения для создания дифференцированных оттенков пластического состояния образа, стремление к жанровости мотива: Афродита держит в полупротянутой левой руке яблоко, подаренное ей Парисом. Изящно красив жест ее полуподнятой правой руки, придерживающей покрывало. Излюбленный в это время мотив спускающегося с плеча рукава трактован художником более манерно, чем у Фидия, и доведен до своего завершающего результата, полностью обнажая левую грудь.
Особого внимания заслуживают приписываемая Алкамену мраморная статуя «Прокна и Итис». Мифологическая тема статуи близка еврипидовской «Медее»: отрок Итис доверчиво прильнул к Прокне, в то время как она погружена в беспокойную задумчивость, решая его судьбу. Вся группа являет прекрасный пример схематы, то есть одухотворенной выразительности пластического образа. Ее новизна состоит в передаче своеобразной зыбкой переходности душевного состояния Прокны. Мы не можем следить за выражением ее лица (голова сохранилась лишь частично), но это состояние явственно передается в задумчивости позы, исполненной сдержанной динамики, в сочетании мягкости ритмов стекающих складок с зарождающимся напряжением в светотеневой моделировке драпировок. Как бы то ни было, в этой, возникшей в конце зрелой классики скульптуре нас по-прежнему поражает та полнота, с которой выражено чувство духовного состояния телесной формы в целом.
Особое состояние схематы — состояние просветленной печали или скрытого трагизма — воплощается в надгробных стелах этого времени: стеле воина из Керамика и рельефе с лекифообразного мраморного надгробия «Мать с ребенком».
Было бы невозможно, однако, представить истоки тех перемен, которые произойдут в искусстве поздней классики, если ограничиться лишь только одними памятниками Аттики.
В зодчестве Сицилии продолжали осуществляться строительные традиции классической архитектуры V в. до н. э. в их западногреческом варианте. Примером тому служит несколько массивный по пропорциям, мужественно прекрасный так называемый храм Конкордии в Агридженто (около 430 г. до н. э.). Особое место в зодчестве Сицилии занимает периптерное сооружение в Сегесте, расположенное на территории, населенной элимами (грецизированной местной народностью). Вероятно, оно было святилищем местного божества. Своеобразное сплетение греческих форм с неклассическими (отсутствие целлы, колонны без каннелюр), вызванное иными культовыми потребностями, имеет как бы двойной смысл.
С одной стороны, это продолжение, но более отчетливо выраженное, тех моментов переклички с местными или соседними культурами, которые были характерны для Западной Греции в VI — начале V в. до н. э. С другой стороны, это как бы локальный вариант, предвосхищающий синкретизм греческих и иногреческих культур, который начинает проявлять себя уже в позднюю классику и получит свое развитие в эпоху эллинизма.
Подобные тенденции с особой силой дали себя почувствовать на стыке двух великих культурных систем древности в малоазийской Греции. Так, искусство Ионии, характеризовавшееся на протяжении VI в. до н. э. декоративностью, в V. в. до н. э. в пределах искусства классического типа приобретает некие специфические особенности. Ему присущи, в частности, повышенный динамизм и живописность трактовки скульптурной формы. В этой связи особый интерес представляют памятники конца зрелой классики, например так называемый «Памятник нереид» в Ксанфе. Стремительно бегущие нереиды созданы как часть скульптурного убранства храма-усыпальницы. Они развернуты фронтально перед зрителем. Поэтому при всей непринужденной живости в передаче движения и форм тела в композиции угадывается далекий отзвук архаического мотива — развернутая на зрителя бегущая фигура (например, «Ника» Архерма). Однако здесь этот прием носит характер изысканной стилизации.
Статуи нереид были расположены между ионийскими колоннами, обрамляющими погребальную целлу сооружения. Изящная пышность их одежд и вместе с тем скользящая легкость бега дев-нереид, выразительные чередования их развевающихся полупрозрачных одеяний и стройных неподвижных колонн создавали картину, полную праздничного очарования, несколько неожиданную для усыпальницы.
Казалось бы, «Памятник нереид» продолжает традиции, заложенные в Эрехтейоне или храмике Ники. И все же не только некоторая перегрузка скульптурным декором отличает его от тех зданий. Особое значение имеет заполнение стен высокого подиума рельефами, маскировавшими конструктивную логику здания. Наконец, само назначение памятника (монументальная усыпальница знатного лица) предвещает те решения, которые станут характерными для искусства поздней классики и подготовят появление искусства эпохи эллинизма.
Стремлением к декоративной эффектности композиции, нарастанием чувства патетического драматизма отмечены скульптуры «Похищение Орифии Бореем», «Эос и Кефал» из храма Афины на острове Делос, что
115
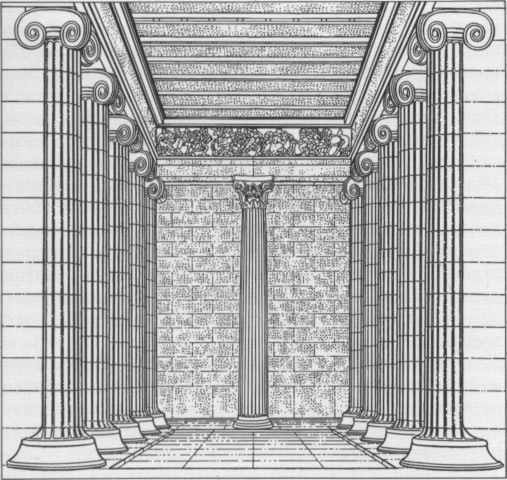
Храм Аполлона я Бассах. Около 430 г. до н. э. Реконструкция целлы
в свою очередь также свидетельствует о постепенном исчерпании искусства периода зрелой классики. Большой интерес представляют некоторые монументальные скульптурные композиции, созданные в храмовых ансамблях Пелопоннеса. Наиболее значительным среди них является зофор дорического храма в Бассах. Построенный Иктином около 430 г. до н. э., храм отличался введением новых мотивов. Строители соорудили внутри храма выступающие поперечные стенки-столбы, завершаемые ионийскими полуколон-ками, а зофор был помещен внутри целлы. Это делало решение внутреннего пространства храма более динамическим, богатым светотеневыми эффектами.
Такое решение указывало также на повышение удельного веса внутреннего пространства в жизни архитектурного образа и являлось одним из самых ранних примеров начавшегося отхода от его неразрывной связи с конструкцией. Здесь стена целлы открыто является основой конструкции, несущей на себе тяжесть перекрытия, а полуколонны выполняют скорее образно-выразительную функцию. Этот момент усиливался введением в интерьер, кроме ионийского, коринфского ордера с его повышенной декоративностью (на торцовой, противоположной входу стене). Вместе со своеобразным напряжением выступающих из стен столбов это создавало определенное эмоциональное состояние интерьера, созвучное также напряженному драматизму фриза. Так, иными, чем в Олимпии и Парфеноне, методами зодчий и ваятель достигают образно-эмоционального единства архитектурного и скульптурного решения.
Ярче всего новые тенденции ломки старой художественной системы проявились в рельефах фриза. На одной стороне целлы изображены сцены амазономахии, на другой — кентавромахии. Резкая стремительность движений, беспощадная передача жестокости схватки, искаженные злобой физиономии кентавров, выражение патетического страдания на лицах лапифов, бурные контрасты света и тени, введение резких ракурсов, нарушающих связь скульптурной композиции с плоскостью стены, определяют особое место, которое занимают эти рельефы в искусстве зрелой классики. Моделировка формы отличается скорее тяжеловесной энергией, чем гармонической соразмерностью пропорций. Резкая, угловатая анатомия ракурсов не всегда безукоризненна. Трудно сказать, имеем ли мы дело с проявлением самобытной силы провинциального мастера, развивающегося на периферии большого классического искусства, менее связанного с его системой и потому инстинктивно свободнее угадывающего новые, позднеклассические тенденции развития. Возможно, однако, что автор фриза был большим мастером-новатором, сознательно начавшим отход от гармонии зрелой классики к драматически экспрессивному искусству поздней классики. Естественно, что новая система художественного языка еще лишь формируется здесь и не достигает необходимой художественной органичности.
Интерес к передаче патетики и отказ ради драматической выразительности впечатления от гармонической целостности образа угадывается и во фрагментах метоп храма Геры в Аргосе, созданного около 420 г. до н. э. неизвестным пелопоннесским мастером. Общий кризис полиса, наступление которого было ускорено бедствиями Пелопоннесской войны, определяет начало нового, позднейшего, завершающего этапа в искусстве классики. Поэтому не случайно, что уже в последней четверти V в. до н. э. зарождаются новые тенденции в искусстве.
КЕРАМИКА
Греческая керамика в эпоху ранней и зрелой классики переживала период яркого расцвета. Новый этап в ее эволюции в основном принес новые эстетические ценности в области вазовой росписи. Формы и пропорции сосудов, достигшие в период зрелой архаики высокого совершенства, на протяжении большей части V в. до н. э. не претерпевали принципиальных изменений. Большие изменения в формах сосудов происходят в начале IV в. до н. э., что связано с переходом к поздней классике. Эти изменения носили негативный характер: формы сосудов усложняются, они становятся более пышно декоративными по силуэту, а былое благородство их пропорций и скупая ясность форм уходят в прошлое.
Таким образом, то новое, что в V в. до н. э. связано с керамикой, относится более к искусству вазописцев. Следует отметить при этом, что тенденции отхода от принципов зрелой классики в некоторых росписях сказались раньше, чем в скульптуре. В связи с этим некоторые росписи конца V в. до н. э. будут рассмотрены в следующей главе.
Для вазописи, как и для всего искусства этого времени, было характерно стремление к большей жизненной конкретности образа человека, к более глубокой передаче его телесно-духовного состояния. В связи с решением этих задач господствующее место заняла
116
краснофигурная вазопись, возникшая еще в последние десятилетия VI в. до н. э. Краснофигурная роспись в высокой степени соответствовала эстетическим запросам стиля, сочетавшего монументальную обобщенность композиции со свободным выявлением живой пластики человеческой фигуры.
Краснофигурная вазопись обычно очень строго соблюдает двухтоновость черно-красного изображения. Она возвышенно монументальна и, так сказать, героична. Но сдержанная выразительность, обобщенная пластичность краснофигурной техники требовали некоего дополнения, обеспечивающего всю полноту воплощения эстетических идеалов времени в вазовой росписи, подобно тому как в свое время строгость оды и пеана дополнялась изящной лирикой Сафо.
Интерес к более живописным, более лирически утонченным решениям вызывает к жизни особую технику так называемой белофонной вазописи. По белому, иногда чуть тонированному фону вазописцы наносили силуэты изображения, прибегая затем к черно-бурой, светло-зеленой, серо-голубой, розово-алой и желтой краскам. Обычно в одном изображении сочеталась не вся палитра, которой располагал вазописец, а с изящной скупостью применялись лишь два или три тона. Легкие, мягко светящиеся краски создавали удивительно сдержанный живописный эффект. Правдам дошедших до нас белофонных лекифах краски несколько выцвели. Их чуть глуховатая мягкость гаммы, видимо, первоначально была более звонкой и легкой. Белофонная вазопись вместе с краснофигурной дает нам возможность дополнить наши скудные представления о греческой живописи того времени. Ряд композиций краснофигурной вазописи предположительно воспроизводит в существенно видоизмененном виде (применительно к особенностям росписи ваз) известные в древности композиции монументальной живописи. Менее связанные с этими большими композициями и более камерные сюжетные мотивы белофонной вазописи дают нам наряду с немногими сохранившимися подлинниками греческой живописи представление о живописном видении, о живописной палитре древних греков. При этом краснофигурная вазопись, расписывающая самые разнообразные по форме сосуды и отличающаяся наибольшей тематической широтой, занимала главенствующее место в керамике V в. до н. э. Это дает возможность с особой последовательностью проследить общую эволюцию ее художественных принципов.
В период, непосредственно предшествующий ранней классике, представление о сложении стиля дают работы Эпиктета, Брига, Олтоса и некоторых других мастеров, работавших в последние десятилетия VI и в начале V в. до н. э. По своей художественной манере ранняя краснофигурная вазопись соответствует ранней классике в скульптуре с той разницей, что процесс формирования нового художественного этапа в вазописи хронологически начинается несколько раньше. Это становилось возможным, поскольку накопленный в поздней архаической вазописи опыт более свободной композиции и более реалистической передачи движения, большая связь мотивов с непосредственно бытовыми темами способствовали утверждению художественной концепции ранней классики.
Одним из примеров первых поисков решений классических форм в искусстве вазописи является изображение лучника в восточном одеянии, возможно, Париса, украшающее дно винной чаши. Роспись была создана Эпиктетом где-то между 510 и 490 г. до н. э. Силуэт отличается свойственной еще чернофигурному стилю графической выразительностью. Мастер с изысканной элегантностью передает узорный орнамент облегающей юношу одежды. Однако его движения переданы очень точно: убегающий от врага и повернувший к нему лицо юноша легким стремительным движением правой руки выхватывает из колчана стрелу. Передав конкретную жизненность мотива движения, гибкое изящество фигуры юноши, Эпиктет одновременно сумел сохранить гармоническую, почти музыкальную целостность композиции.
Для творчества Олтоса характерно стремление художественно освоить, ввести в утонченную стилистическую систему вазовой росписи того времени конкретно наблюденное в жизни богатство движений человеческого тела.
Так, в великолепной амфоре, находящейся в Лувре, он изображает сцену преследования менад сатирами, расположив две парные композиции, обрамленные изящным орнаментом, на двух сторонах тулова. Каждая из двух пар дает как бы два различных пластических решения одного и того же сюжетного мотива. Человек, рассматривая изображение на амфоре и вращая ее, имел возможность оценить общее единство не только стиля, но и композиционно-тематического мотива и одновременно с этим насладиться различием в их решении.
Найденные в VI в. до н. э. принципы композиционной связи изображения с формой сосуда, с особенностями его восприятия с разных точек зрения продолжают развиваться и в V в. до н. э. Характерно, что Олтос при всей графической изощренности силуэтов уже использует возможность краснофигурной техники для акцентировки пластической моделировки человеческого тела, придавая ему определенную объемность. Это особенно чувствуется на изображенных на шейке амфоры грациозных фигурках обнаженных купальщиц, надевающих сандалии. Они прекрасно вписаны в композиционное поле амфоры и поражают изысканной непринужденностью движения.
К работам, характерным для ранней классики, относится находящийся в Лувре кратер колоколообразной формы с изображением Ганимеда. Эта работа аналогична поискам нового мотива движения в скульптуре того времени. Ганимед изображен стройным и крепким эфебом. Внутренние контуры скупо и точно передают напряжение мускулатуры юноши. Выразителен контраст круга обруча, который гонит Ганимед, и чуть угловатого движения его фигуры. Прекрасно найдено соотношение масштабов пустого, незаполненного фона и самой фигуры, которая, однако, своей упругой энергией и стремительным движением создает как бы своеобразное силовое поле, полностью охватывающее всю композиционную зону.
Почти одновременно в вазописи ранней классики появляются работы, исполненные не только брутальной жизненности, но и специфической, почти карикатурной гротескности. Такова эрмитажная пелика с
117
верблюдом и негритенком, не лишенная, впрочем, своеобразной причудливой декоративности силуэта. Особое значение имело направление, создавшее многофигурные, точнее говоря, двух-трехфигурные композиции, передающие определенное сюжетное событие. Наиболее яркими мастерами этого направления были вазописцы Сосий, Евфроний и Дурис, а также мастера, расписывавшие сосуды гончаров Панайтия и Клеофрада.
В созданной Сосием около 500 г. до н. э. росписи «Ахилл, перевязывающий рану Патрокла» продолжают развиваться распространенные в последней четверти VI в. до н. э. композиционные приемы. С той существенной разницей, что в фигуре раненого воина Сосий отказывается от дальнейшего применения традиционной схемы изображения (нога — в профиль, грудь — анфас) и решительно обращается к объемноракурсному изображению человеческого тела. Вместе с тем он сохраняет любовь к изысканно дробному заполнению силуэта. Правда, мастер преследует не только декоративные цели, передавая с изумительной точностью чешуйчатую броню воинов и изящный декор их шлемов. Очень скупо он стремится показать ту реальную среду, в данном случае небольшой холмик земли, на котором расположены оба персонажа группы, не ограничиваясь при этом той плоскостью-постаментом, к которой прибегали предшествующие и современные ему мастера.
Интересны приемы вписывания группы в отведенное формой сосуда композиционное поле. Группа в своей ясной замкнутости не только вписана в круг сосуда. Художник создает как бы реальное взаимодействие между изображением воина и местом действия, трактуя ободок килика реальной границей среды. Так, раненый воин, сдерживая боль и стремясь одновременно найти устойчивое положение, упирается своей полусогнутой левой ногой в ободок килика как нечто реально существующее, подобное твердой поверхности. Художнику гончара Панайтия, более связанному с ионийской традицией, в меньшей мере свойственна прямолинейная реалистическая конкретность работ Сосия. В росписи на луврском килике, посвященной встрече Тесея с Амфитритой (490—480 гг. до н. э.), мастер с изяществом использует тонко дифференцированную игру складок, создающую своеобразный, то легко трепетный, то более широко свободный ритм. Это вызывает ощущение зыбкой и поэтической мелодичности, как бы окутывающей силуэты фигур Амфитриты, Тесея и Афины.
Одним из крупнейших мастеров этого переходного времени был Евфроний. В его росписи луврского кратера «Борьба Геракла с Антеем», относящейся к самому концу VI в. до н. э., как бы продолжены в краснофигурной технике традиции вазописца Андокида («Борьба Геракла с немейским львом»). Для Евфрония обращение к краснофигурной технике имеет тот смысл, что она дает ему возможность более жизненно промоделировать напряжение мышц борющегося тела, более конкретно передать сам мотив борьбы. Почти грубая энергия этой композиции сближает ее с поисками пусть угловатой, но реалистически жизненной конкретности движения, которая начинает проявляться несколько позже и в скульптуре.
Совершенно иной характер носит замечательная композиция мастера круга Евфрония на эрмитажной пе-лике. Это так называемая «Пелика с ласточкой», созданная около 500 г. до н. э. Она представляется не только одним из первых опытов гармонической группировки трех фигур, но и попыткой создания своеобразной лирической ситуации. Изображение объединяет образы зрелого мужа, юноши в расцвете сил и мальчика. Не нужно, однако, думать, что эта композиция аналогична аллегорическим изображениям возрастов человека, которые мы встречаем в европейском искусстве, например, в позднем средневековье. Цель художника состоит не в создании нравоучительной аллегории о трех возрастах жизни. Он наслаждается сопоставлением пластической выразительности и красоты человеческого тела на разных ступенях своего бытия. Вместе с тем фигуры объединены полной изящного лиризма сюжетной ситуацией. Над ними изображена летящая ласточка — вестница весны, к ней и обращены их взоры. Каждая фигура по отношению к другой обладает пластической замкнутостью, существует как бы в законченной красоте своего образа.
И все же они объединены, правда, не непосредственным обращением друг к другу, а устремленностью к единому объекту внимания — ласточке. Она вызывает общую, но различную, в зависимости от возрастного характера каждого, реакцию. Мастер пластически конкретизирует и завершает свой художественный замысел, вводя в композицию надписи:
— Смотри, ласточка! — восклицает юноша.
— Правда, клянусь Гераклом! — подтверждает бородатый муж. — Уже весна!
— Вот она! — радостно восклицает мальчик.
В органическом сочетании зрительного образа с текстом создается полное очарования изобразительное стихотворение в прозе, очень близкое по своему поэтическому настроению современной греческой лирике. Вазописцы и раньше вводили текст в свои изображения. Однако он обычно носил сюжетно-информационный характер: чаще всего обозначались имена героев, что должно было помочь понять, о каком событии шла речь в изображении. Здесь же художник ставит и с классической ясностью решает ту проблему синтезу графического образа с литературным текстом, которая в дальнейшем будет разрабатываться на протяжении многих веков. Например, такая связь характерна для многих гравюр позднего средневековья в Европе и для русского лубка. По-своему эта проблема решается в органической слитности изобразительного образа либо с эмоциональной подписью-восклицанием, либо с нарочито спокойным по тону комментарием драматических сцен из «Капричос» Гойи. Таково же и соотношение изобразительного образа и соподчиненного ему текста в современном плакате. Во всех наиболее глубоких решениях этого рода речь идет не о пояснительном или комментирующем изображении текста, а об их художественно-образном взаимодействии. Конечно, конкретный характер этой связи глубоко изменяется с веками. Причем это зависит и от стиля эпохи и от разной функции изображения — керамика, гравюра, плакат и так далее. В таких синтезах ощущается то напряженно субъективное начало (Гойя), то страстная инвектива плаката, то ясный
118
лиризм духа античности. Ваза круга Евфрония представляется и одним из первых и одним из неповторимо высоких решений этой задачи.
Возвращаясь к росписи пелики, следует упомянуть, что на ее противоположной стороне помещена сцена борьбы юношей на палестре. Эти две композиции не просто не совпадают по теме. Они образуют тот гармонический контраст, который является одним из художественных принципов искусства полиса. Как мы помним, он в известной мере заложен уже в самом принципе соединения, сопоставления скульптуры и архитектуры в античном синтезе. Он угадывается в сопоставлении двух боковых фигур «Трона Людовизи». Он обнажается в стихотворении Ивика, где картина радостно цветущего весеннего сада сменяется образом несущего безумие грозного Эроса. Таков и гармонический контраст покоя, сосредоточенности перед борьбой и жестокой схваткой на восточном и западном фронтонах храма Зевса в Олимпии. В малых масштабах античной вазописи Евфроний один из первых нащупывал путь к такому образному сопоставлению красоты тела, предавшегося созерцанию, красоте тела, охваченного напряжением борьбы. Следующий этап становления ранней краснофигурной вазописи представлен творчеством мастера, расписывавшего сосуды гончара Клеофрада. Художник выразительно рисует человеческие фигуры на плоскости сосуда, не разрушая их пластической весомости. В некоторых работах мастера Клеофрада можно заметить попытки пластической передачи не только действия, но и общего духовно-эмоционального состояния героев. Такова роспись гидрии «Падение Трои», хранящейся в Национальном музее в Неаполе (480—470 гг. до н. э.). На ней с большой конкретностью передана сцена, изображающая ворвавшегося в святилище Аякса. Он с силой отрывает Кассандру от статуи Афины, долженствующей служить ей священной защитой. Скупыми графическими средствами мастер сумел передать сложный ракурс и выразительный контрапост движения коленопреклоненной Кассандры, прильнувшей к статуе и тщетно пытающейся молящими движениями руки остановить неистового Аякса. Красота ее тела контрастно выступает на фоне складок плаща, перевязанного вокруг ее шеи и спадающего с плеч. Движение Кассандры, несмотря на предельную обобщенность, не только правдиво, но и исполнено глубокого чувства. Прекрасно сопоставление драматического моления Кассандры, безнадежно покорной печали дев и суровой энергии движения Аякса. В росписи найдена сложная гармония контрастных мотивов, образующих полное внутреннего движения равновесие, столь свойственное именно классическому искусству. Здесь зарождается также и новое понимание роли складок-драпировок. Если в архаике драпировка в основном организовывала декоративные ритмы, украшающие композицию и дополнительно насыщающие ее музыкальными мотивами, то в этой росписи господствующее положение занимает благородная красота одухотворенных движений самого человеческого тела. Драпировка начинает выступать как своеобразное эхо жизни тела, некий комментарий, соподчиненный телу ритмический мотив, выявляющий и оттеняющий его красоту. Кстати, мотив драпировок плаща как фона, на котором выступает гибкая целесообразность движений прекрасного тела, начинает с этого момента длительную историю своего развития. Так, мы найдем его в метопе Парфенона № 27 («Лапиф и кентавр»), а позже в «Аполлоне Бельведерском» скульптора Леохара.
Вазописец Клеофрада является также мастером пластически выразительного мотива одиноко стоящей фигуры. Таково изображение Геракла на тулове стройной амфоры, с великолепной пластичностью выделяющегося на ее фоне. В «Геракле» решается проблема соотношения пластики человеческого тела и драпировки с помощью сопоставления энергии охваченного стремительным порывом могучего тела героя и инертно свисающей драпировки. Вместе с тем спадающая с левой руки львиная шкура как бы останавливает и композиционно завершает энергию движения Геракла, придавая своеобразную уравновешенность и композиционную замкнутость всей фигуре. Здесь мастер, по существу, решает задачу ритмической устойчивости и пластической завершенности композиции при передаче напряженного движения, в какой-то мере предвосхищая ее классическое решение в статуарной пластике Мирона.
Фигура Геракла обладает композиционной законченностью и одновременно является частью композиции, расположенной на двух сторонах амфоры. Насладившись созерцанием полной мужественной красоты фигуры Геракла, мы поворачиваем амфору и видим изображение кентавра, занесшего руку для удара. Таким образом, роспись в целом состоит из двухфигурной группы, изображающей бой Геракла с кентавром. Мастер стремится выявить относительную самостоятельность каждой из фигур. Это, кстати говоря, видно и по такой частной композиционной детали — фигуры кентавра и Геракла опираются как на статуарный постамент на полосу меандрового орнамента. Она не охватывает полностью тулово сосуда, а дана короткими отрезками, под каждой из фигур.
То, что мастер Клеофрада прекрасно владеет и парной композицией, видно на изображении двух эфебов на каждой из сторон большого кратера из Таранто. Здесь нет определенного сюжетного события — это лишь полное непринужденной жизненности сопоставление обнаженной и одетой фигур эфебов, занимающихся гимнастическими и музыкальными упражнениями. Так, стремительное движение нагой фигуры противопоставлено более спокойно задумчивому движению фигуры, задрапированной в спадающий живописными складками плащ. Таким образом, каждая из двух групп отличается той общностью мотива, которая органически объединяет их в единой композиции сосуда. Одновременно они обладают различием, которое снимает монотонность повтора и придает ощущение живого разнообразия этому единству.
К кругу замечательных мастеров ранней классики относится вазописец Дурис. Его роспись килика «Афина, наливающая вино отдыхающему Гераклу», созданная около 490 г. до н. э., носит исполненный созерцательного лиризма характер. В композиции примечательно не только гармоническое объединение в единое целое фигур Геракла и Афины. Принципиальный интерес представляет также попытка обозначить место
119
действия — лес и горы. Это достигнуто тем, что Ге-ракл изображен сидящим на камне, а поверхность сосуда между Гераклом и Афиной заполнена изящно изгибающимся силуэтом дерева. Прихотливостью своего ритма оно оттеняет спокойную задумчивость Афины и сдержанную энергию Геракла. Эта роспись, как и фрески «Гробницы ныряльщика» из Пестума 480-х гг. до н. э., дает возможность представить себе, как на деле выглядело то обозначение пейзажной среды, о которой повествуют древние описания не дошедших до нас произведений монументальной живописи V в. до н. э. Думается, что ценность вазописи для относительной конкретизации наших представлений о древней живописи состоит не только в том, что иногда в ней трактовались преобразованные в соответствии с особенностями ее художественного языка известные в древности картины. Не меньшее значение имеет то, что принятый в вазописи способ передачи окружающей среды дает возможность представить себе те художественные принципы, которыми руководствовались и мастера монументальной живописи1.
Роспись Дуриса на дне килика, находящегося в Лувре, посвященная Эос и Мемнону, исполнена просветленного трагизма. Глубокой поэзией пронизан образ ясной скорби Эос, печально склоненной над поникшим телом убитого Мемнона. Прозрачная чистота сопоставления гибкой Эос и безжизненного тела Мемнона составляет достоинство небольшой по размерам, но столь монументальной по внутренней значительности композиции. Это одно из тех произведений, которое отвергает мнение о том, что якобы образы классического изобразительного искусства отличает чисто телесное, почти предметное восприятие человека. Конечно, вплоть до начала IV в. до н. э. в античном изобразительном искусстве отсутствуют еще личностное начало, субъективная патетика переживания. Но выражение глубоких человеческих состояний в общем универсально типическом их проявлении было, несомненно, в высокой степени свойственно древним грекам эпохи классики.
Более того, на примере этой росписи мы снова убеждаемся, что решение греческого мастера не только неповторимо самоценно и законченно, но вместе с тем оно обращено в будущее. Глядя на скорбящую Эос, поддерживающую безжизненное нагое тело Мемнона, на печально спадающие складки ее одежды, невольно возникает в памяти «Пьета» Микеланджело. Дело, конечно, не в том, что Микеланджело мог быть знаком с этой композицией, он ее попросту не знал, да и между Эос и «Пьетой» различие не меньшее, чем между «Дорифором» Поликлета и «Давидом» Микеланджело. Важно, что здесь впервые ставится и решается одна из больших художественно-этических проблем, которая на протяжении многих веков волновала художественное сознание человечества. Такие связи представляются еще одним подтверждением того, что гуманизм греческой культуры действительно является начальным истоком, содержит в себе в зародыше ряд существенных проблем последующего духовного развития европейского гуманизма, а также европейского искусства вплоть до сегодняшнего дня. Для замечательного аттического вазописца гончара Брига начала V в. до н. э. характерно умение передать с поэтической оживленностью повседневные мотивы жизни. Так, своеобразным лукавством отличается композиция «Последствия симпосия» на дне килика вазописца Брига. Осушив чашу, участник пирушки видел изображение девушки, поддерживающей голову злоупотребившего выпивкой юноши.
Особой поэтичностью отличается композиция «Алкей и Сафо», размещенная на тулове высокого сосуда для вина. Стройные вертикали фигур гармонируют с общими пропорциями вазы. Вместе с тем задумчивость склонившего голову Алкея, играющего на кифаре, и сдержанная оживленность полуобернувшейся к нему Сафо поражают поэтической тонкостью сопоставления образов героев с возвышенным благородством их духовного состояния. Созданное в 480-х—470-х гг. до н. э., это творение своим зрелым мастерством не только предвосхищает жизненность совершенных образов зрелой классики, но вызывает в памяти музыкальную чистоту самой поэзии Алкея и Сафо. Не случайно очень давно две стихотворные строфы Алкея и Сафо были превращены в диалог двух поэтов, и вазописец создал изобразительный аналог, исполненный сдержанной страсти и поэтического благородства:
Алкей: Сафо, фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежной! Очень мне хочется
Сказать тебе кой-что тихонько,
Только не смею: мне стыд мешает.
Сафо: Будь цель прекрасна и высока твоя,
Не будь позорным, что ты сказать хотел, —
Стыдясь, ты глаз не опустил бы,
Прямо сказал бы ты все, что хочешь2.
Современная наука установила, что такого поэтического диалога не было. Стихи были созданы независимо друг от друга, хотя их внутренняя связь оказалась очень глубокой. Но вазописец действительно создал «диалог» Алкея и Сафо.
Особое место занимает группа изображений 70-х— 50-х гг. V в. до н. э., связанная с постепенным переходом вазописи к зрелой классике. В изображении Ахилла, убивающего царицу амазонок Пентесилею (около 460 г. до н. э.), выполненном мастером Пентесилеи, мы еще чувствуем жизненность традиций предшествующего этапа вазописи, в частности подчеркнутый драматизм в сопоставлении тщетно молящей о пощаде коленопреклоненной Пентесилеи и злобно безжалостного Ахилла, вонзающего в ее грудь меч. Тогда как в изображении Аполлона, убивающего Тития (около 455 г. до н. э., того же мастера), сдержанный драматизм мотива сочетается с великолепной, классически уравновешенной, ясной композицией.
К этому кругу примыкает изображенная на аттическом кратере сцена, посвященная каре, постигшей Актеона, который подсмотрел купающуюся Артемиду (около 450 г. до н. э.). Непринужденная свобода композиционного расположения стремительной фигуры Артемиды,
1 Естественно, следует делать поправку на несколько большую скупость цвета и графизм, присущие росписи по предмету. Все же опыт сравнения, скажем, живописи рококо и соответствующих росписей по фарфору, картин и фаянсов эпохи Возрождения дает право судить об их стилевой общности.
2 Алкей. Фрагмент 4. — Веб.: «Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева», с. 292.
120
мечущей стрелы, и упавшего на колени с протянутой в отчаянной мольбе рукой Актеона, терзаемого охотничьими псами богини, сочетает внутренний драматизм и вместе с тем благородную сдержанность его внешнего выражения.
Вазопись зрелой классики иногда отличается и некоторой тенденцией к отходу от непосредственной жизненности изображения ради передачи возвышенной монументальности. Такова роспись кратера «Орфей у фракийцев», а также вазы работы мастера гончара Клеофона, например исполненная спокойствия и возвышенной гармонии сцена прощания юного воина с девой. Однако в подобных композициях немного утрачиваются свежесть и непосредственность чувства, отличающие вазописцев первой трети века. Характерно, что даже при изображении темы борьбы многие художники зрелой классики стремятся к подчинению драматического действия возвышенной и спокойной гармонии целого. Так, изображая на луврском кратере из Орвието избиение Ниобид Аполлоном и Артемидой, мастер Ниобид стремится к большей гармоничности в передаче жестокой схватки. Движение мечущего стрелу Аполлона отличается не только своей властностью, но и сдержанностью. Вазописец подчеркивает пластическую красоту образа нагого Аполлона, оттеняя ее изящной стройностью одетой в пеплос Артемиды.
Пронзенные стрелами, лежащие на земле Ниобиды изображены в движениях и ритмах, скорее печальноэлегических, чем драматических.
Мастер Ниобид, безусловно, вдохновлялся большой многофигурной настенной живописной композицией. Попытка перенести ее с плоскости на закругленную поверхность вазы не могла не вызвать некоторых трудностей, в частности в достижении равновесия и ясности многофигурной композиции. Особенно это заметно в сюжете обратной стороны луврского кратера, изображающего Геракла и Афину с аргонавтами на острове Лемнос, видимо, навеянном картиной на эту же тему. Разбросанные друг над другом фигуры разрушают ясную законченность, столь свойственную композиции греческой вазописи. Так, то, что являлось сильной стороной монументальной живописи середины V в. до н. э. — попытка изобразить окружающую человека среду, — в вазописи приводило к разрушению связи изображения с формой сосуда, которую ранее вазописцы с большим тактом умели сохранять в своих работах.
К концу зрелой классики в последней трети V в. до н. э. в греческой вазописи нарастает стремление к утонченной поэтизации естественно-повседневных бытовых мотивов. Нечто подобное происходило и в скульптуре, например в рельефе «Ника, развязывающая сандалию». В вазописи работы такого рода появляются даже в конце второй трети века. Такова ваза «Менада на качелях» мастера Пенелопы. Исполненная жизненной непосредственности и вместе с тем изящного лиризма, сценка лишь формально сохраняет связь с миром мифов. В отличие от этой росписи и от рельефа «Ника, развязывающая сандалию», где поэтический реализм жизненного мотива был обусловлен культовым сюжетом, роспись ойнохои так называемого мастера Шуваловской амфоры (после 425 г. до н. э.) от такой мотивировки свободна. Изображенная на ней группа ребят, играющих в жмурки, — пример чистого жанра. Как редкие жанровые работы, так и жанрово-мифологические «Менада на качелях», «Афродита за туалетом» (лекиф, расписанный вазописцем гончара Мидия) отнюдь не повторяют жесткого, подчас терпкого реализма вазовых росписей начала века. Изящная грация и непринужденная живость мотива, некая атмосфера интимной лиричности не только резко отличают ойнохою от более ранних ваз, но и указывают на зарождение более лирического восприятия художественного образа, который и получит свое развитие в искусстве поздней классики. Особое место в вазописи V в. до н. э., как уже упоминалось, занимают вазы с белофонной росписью. Часть белофонных росписей обычно посвящалась мифологическим темам, как, например, эрмитажный лекиф «Афродита с лебедем», в котором сопоставлены строгая стройность одетой в пеплос Афродиты и гибкая волнистость силуэта лебедя.
Этой техникой расписывались небольшие лекифы, в частности посвященные жертвенным возлияниям на могилах умерших. Сюжетный круг таких лекифов близок темам греческих скульптурных надгробий. Очень ясно своеобразный возвышенный лиризм, свойственный вазописи уже в конце второй четверти века, выражен в росписи килика «Аполлон и муза» (Бостон, Музей изящных искусств). Поэтичны фигуры одетой в пеплос Афродиты и летящих к ней Эротов на вазе, исполненной около 460 г. до н. э. (Флоренция, Археологический музей). Задумчивость движения Афродиты, тонкое сочетание мягко-звучных Цветовых пятен ее плаща, воздушная легкость порхающих над богиней Эротов придают особую поэтическую нежность этой очень ясной и строгой по своему силуэту композиции.
К середине V в. до н. э. относится группа лекифов, посвященных культу умерших. Среди них выделяется прекрасная роспись со сценой прощания юного воина с молодой женщиной. Выразительно сочетание взгляда юноши, повернувшего голову к печально сидящей деве, и помещенного на его щите огромного, осененного ресницами грустного глаза, устремленного к ней же. Спокойная нежность цветовых аккордов завершает общее ощущение чуть печальной тишины, наполняющей всю сцену. На погребальных лекифах встречаются и более драматичные сцены, как например, изображение гениев сна и смерти, несущих как бы погруженного в сон воина (430 г. до н. э., Лондон, Британский музей).
Принципиальное значение этой серии лекифов состоит и в том, что как и в скульптурных надгробиях, в них с особой ясностью выражена схемата, то есть пластическая передача душевного состояния героев.
В целом во второй половине V в. до н. э. в белофонных лекифах происходит некоторая эволюция. Она заметна уже в росписи «Муза, играющая на лире» (около 445 г. до н. э., Лугано, частное собрание). О том, что изображена именно муза, находящаяся на Геликоне — обиталище муз и Аполлона, — повествует соответствующая надпись. По общему характеру исполнения изображение связано еще с искусством середины V в. до н. э. Однако появление у ног музы
121
изображения птички, слушающей ее пение, вносит тот оттенок утонченного лиризма, который характерен для одного из направлений искусства последней трети V в. до н. э. Кстати, птичка, повернув свою голову за пределы композиции, «подсказывает» глазу переход к оборотной стороне лекифа, где изображена дева, внимающая пению Музы.
В дальнейшем видоизменяется и манера исполнения росписи. Мастера в меньшей мере обращаются к широким цветовым плоскостям, а легко скользящей рукой наносят по светлому фону графически сложный и живописно свободный по исполнению рисунок. Таково изображение сидящего Гермеса (430 г. до н.э., Мюнхен, Музей античного прикладного искусства). В росписи на лекифе, представляющей задумчиво сидящую деву (конец V в. до н. э., Афины, Национальный музей), интерес к свободно переданному сложному ракурсу и непринужденная легкость исполнения (например, живописно свободная трактовка шапки волос) сочетаются с несколько изощренно усложненной моделировкой формы, предвосхищающей вазопись поздней классики. Видимо, и мастера белофонной живописи начинают утрачивать чувство гармонии и благородной сдержанности. Лишь в росписи «Обнаженная девушка у гробницы» (конец третьей четверти V в. до н. э., Афины, Национальный музей) мы видим живую непринужденность легкого рисунка и ясную чистоту мотива, которые представляют собой редкое сочетание живописной свободы позднего стиля с гармонической ясностью классического этапа его развития.
В конце V в. до н. э. в вазописи ощущаются черты упадка большого стиля. Пышная сложность, стремление к роскоши и к анекдотической занятности рассказа в росписи поздней классики уже не смогут возместить безвозвратно ушедшую в прошлое благородную простоту искусства вазописи VI и V вв. до н. э.
ЖИВОПИСЬ
V в. до н. э. является временем первого расцвета античной живописи. Однако до самого последнего времени нам приходилось судить о ней еще в большей мере, чем об архаической живописи, по немногим случайным фрагментам подлинников и по отзывам древних авторов. Существует также и довольно много живописных произведений позднеэллинистического и римского времени, восходящих к известным греческим оригиналам. Все же они являются более или менее вольными репликами работ, созданных в основном великими мастерами поздней классики.
Если говорить о греческой живописи V в. до н. э. в целом, то следует отметить, что она все более выявляла свои специфические художественные качества, отличавшие ее как от раскрашенного рельефа, так и от вазописи. Судя по всему, господствующей техникой монументальной живописи была фреска. Правда, очень возможно, что со второй половины века вошли в употребление клеевые, а также восковые краски. Согласно традиции живопись восковыми красками (так называемая энкаустика) первоначально применялась при раскраске кораблей, деревянных саркофагов,
позже в измененном виде она использовалась в настенных росписях, хотя в основном следует сказать, что энкаустика получила широкое развитие в позднюю классику преимущественно в станковой, а отнюдь не в монументальной живописи.
Достоверных сведений о существовании в V в. до н. э. чисто станковых произведений у нас нет, но известно что наряду с настенной живописью существовали иные формы росписи, хотя и не имевшие чисто станкового характера. Примером такого типа живописи для начала V в. до н. э. может служить известный фрагмент росписи мраморного круглого щита. Он являлся, возможно, деталью статуи Афины или отдельным вотивным предметом, предназначенным для храмового интерьера. С наружной выпуклой стороны щит украшен рельефным изображением Горгоны, на внутренней стороне сохранился фрагмент фигуры Ники: она была изображена на красном фоне изящно прорисованным черным контуром. Ее фигура в прозрачном хитоне с золотисто-каштановыми волосами и розовыми губами отличалась изящной грацией и своеобразной поэтичностью. Однако древних ценителей привлекала не такого рода живопись. В центре их внимания находились большие монументальные работы нескольких крупных мастеров, чье творчество сложилось к 470—460 гг. до н. э. Именно эти мастера пользовались всеобщим признанием наряду с поэтами, драматургами и выдающимися скульпторами. Монументальная живопись V в. до н. э. по своим задачам, видимо, стилистически была очень близка скульптуре и тесно взаимодействовала с ней в монументальном синтезе искусства. По существу, задачи живописи в значительной мере вначале сводились к условному, а затем ко все более иллюзорному воспроизведению пластического объема человеческого тела. Окружающая среда изображалась лишь атрибутивно. Такое относительно слабое развитие некоторых потенциальных возможностей живописи как вида искусства, видимо, не ощущалось «недостатком» древними греками с их преимущественно «пластическим» мировосприятием. При этом достижения живописи в рамках героизованного стиля времени были значительны. Живописцы овладели реалистическим изображением человека, взаимосвязи групп людей. Именно в это время зарождается понимание сюжетной ситуации в живописи, что означало большой прогрессивный шаг в ее истории. Так же, как и скульпторы, мастера монументальной живописи (особенно ближе к концу V в. до н. э.) стремились передать не только внешний телесный облик, но и устойчивое, внутреннее духовно-нравственное состояние своих героев, о чем и говорилось в уже упоминавшемся диалоге Сократа с Паррасием.
До последнего времени все соображения о характере античной живописи V в. до н. э. могли носить преимущественно предположительный характер. Однако открытие в июне 1968 года в Посейдонии расписанного фресковой техникой саркофага дает нам возможность несколько полнее судить о подлинном характере живописи ранней классики. Роспись относится примерно к 80-м гг. V в. до н. э. Это заключение обосновывается на стилевом анализе самих росписей. Стилистическая датировка подтверждается и тем, что в захоронении
122
была найдена совершенно новая, не бывшая в употреблении ваза аттического происхождения, вне всякого сомнения, датируемая 80-ми гг. V в. до н. э. Обратимся к самой композиции росписи, расположенной на внутренних стенках саркофага. Она посвящена изображению пиршества-симпосия (возможно тризны). На двух длинных стенках мастер разместил по пяти участников симпосия, возлежащих на пиршественных ложах. Одна из торцовых стенок украшена изображением музыкантов и танцующего участника пира, на другой стенке представлен виночерпий у кратера. На внутренней стороне каменной крышки гроба написана фигура распластанного в полете ныряльщика, ринувшегося в морскую пучину. Отсюда общее название находки — «Гробница ныряльщика». Естественно, что роспись, украшающая узкое пространство саркофага, не дает нам возможности с достаточной точностью судить о том, как могли выглядеть большие, связанные с архитектурой монументально-живописные композиции. В частности, в монументальных росписях соотношение масштабов между фигурами на росписи здания и реальным человеком, видимо, носило иной характер, чем в маломасштабной росписи стенок гробницы.
Тем не менее мастерское композиционное решение, тонкое владение ритмом и цветом, конечно, в пределах характерного для ранней классики пластического восприятия мира показывают, что эти фрески были созданы художником, стоящим на достаточно высоком уровне культуры своего времени. Поэтому фрески «Гробницы ныряльщика», почти единственный и относительно лучший по качеству подлинник живописи V в. до н. э., заслуживают значительно более детального рассмотрения.
В анализе росписи следует учесть, что художник, видимо, мыслил интерьер саркофага как жилища умершего, представляя это внутреннее пространство в своем воображении как некий монументальный интерьер. Поэтому с присущим греческому художественному гению того времени чувством пропорциональных соотношений между частью и целым и общей гармонией художественной формы он, по существу, создавал как бы модель монументальной росписи в малых масштабах.
Можно только удивляться, с какой органичностью неведомый нам мастер сумел вжиться в эти искомые пропорции, почувствовать их столь точно.
Стиль фресок близок к стилю росписей современных греческих вазописцев. Все же различия есть, и они существенны. В данном случае необходимо обратить внимание на следующее. В вазописи скольжение глаза по вращаемой круглой поверхности сосуда делает принципиально возможным применение уже знакомого нам типа лентообразной композиции: в случае вращения возникает как бы непрерывный поток постепенно развертывающегося во времени изображения. Отчасти близок такому решению эрмитажный псиктер Евфрония с изображением пирующих гетер. Кстати, их взаимное размещение во многом близко левой плите росписи «Гробницы ныряльщика». Однако именно здесь мы и улавливаем принципиальное различие. При восприятии во всей законченности каждой из фигур гетер на псиктере видно и частичное изображение фигуры следующей гетеры, уходящей за пределы поля зрения человека, взявшего в руки сосуд. Это вызывает стремление к вращению сосуда и ведет к созданию некоей целостно развертывающейся ленты изображения. Отдельные звенья композиции, таким образом, не составляют одновременно созерцаемое целое. Его восприятие, подобно образу в кино, дается через временное усилие зрительной памяти. На данной же фреске вся группа воспринимается единовременно в своей пластической цельности и законченности. Как бы мы ни сосредоточивали попеременно внимание на той или другой фигуре, перед нами все время сохраняется зрительный образ целого. Этим, кстати, отчасти и объясняется то, что мастер фрески строит ритмическую структуру взаимосвязей фигур богаче того, в общем метрического повторения изолированно взятых фигур в общем потоке композиции, осуществленного Евфронием.
Но вернемся к фрескам. В двух противостоящих и уравновешивающих друг друга группах пирующих воплощены два почти равносущественных аспекта симпосия. Ведь само празднество — приятие вина, часто ритуально мотивированное, было неразрывно связано и с экстазом отдачи себя миру музыки, пения, танца. Противостоящие друг другу начала — вакхическое и мусическое — здесь связаны в единую гармонию одновременного служения Дионису и Аполлону. Поэтому если слева (относительно зрителя, видящего перед собой плиту с танцующими) пирующие радостно протягивают вперед и вверх килики с вином, играя в коттаб, мечут в честь богов или возлюбленных капли недопитого вина, приникают устами к чаше, то на противоположной стене пирующие изображены предающимися радостям музыки.
Такой принцип в известной мере аналогичен композиционной идее алтаря «Трона Людовизи». Там в сопоставлении юной нагой флейтистки и закутанной в одежды женщины воплощены как бы две стороны служения Афродите.
Нельзя не восхищаться тем, с какой простотой мастер достигает в самой композиции фресок и симметрического подобия между двумя группами пирующих и тонко уловленного различия не только фабульного начала в этих двух группах, но и пластически различного воплощения двух сторон симпосия. Хотя обе группы расположены по принципу 1—2—2 слева и 1—2—2 справа, мастер не прибегает к зеркальному повторению движения самих фигур.
Фигуре мужа с левой плиты, протягивающего вперед чашу с вином и как бы встречающего входящего взглядом, противостоит на правой плите фигура полулежащего мужа с выдвинутой вперед рукой с кифарой. Опираясь кифарой о полусогнутое колено, он поворачивает лик к своим сотрапезникам. По силуэту движения фигуры почти зеркально подобны, но один встречает воображаемого входящего, другой, наоборот, включает его в жизнь пирующей группы. Следовательно, формально схожие ритмические мотивы приобретают почти противоположное значение.
Далее на обеих плитах дается изображение пары пирующих, возлежащих на одном ложе. На левой плите эфеб гибким движением руки как бы подхватывает и усиливает динамику движения руки первой фигуры,
123
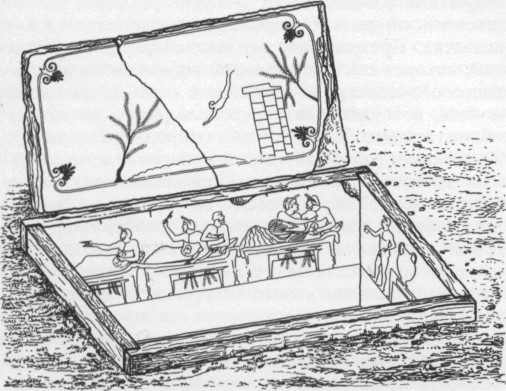
Схема расположения росписей «Гробницы ныряльщика» Около 480 г. до н. э.
выплескивая навстречу входящему капли недопитого вина, в то время как возлежащий с ним на ложе муж поворачивает голову к завершающей всю группу паре. На правой же плите эфеб и муж погружены в беседу, создавая ощущение поэтической замкнутости; правая рука эфеба спокойно лежит на коленях. Если в первой плите движение рук дает ощущение нарастающей динамики, то здесь, наоборот, дан переход от сдержанной динамики к непринужденному гармоническому покою. Последняя пара на левой плите, завершая всю композицию, изображена в оживленной беседе. Характерно, что если эта пара отличается почти беспокойной динамикой общего силуэта, то ритмическая интонация последней пары на правой плите, изображающей юношу, играющего на флейте и охваченного мусическим созерцательным экстазом мужчины, отличается своеобразной мелодичностью.
Этот разный оттенок состояния людей, радостно вкушающих вино, охваченных влечением друг к другу или отдавшихся ясно согласованным ритмам музыки, ощущается в большей плавности движений в правой и большей динамичности в левой композиции. А силуэт задрапированных в темно-вишневую ткань бедер и ног юноши, играющего в коттаб, очерчен не мягкой кривой, как белая драпировка композиционно соответствующего юноши на правой плите, а изящным мелковолнистым беспокойным контуром. Соединительным звеном между обеими композициями является изображение на торцовой плите двух танцующих мужских фигур. В них, особенно в центральной фигуре, динамическое начало всей композиции получает свое кульминационное выражение. И вместе с тем образ ведущей их танец флейтистки, чей певуче мягкий и светлый по цвету силуэт еле выступает из фона фрески, вводит мотив особенно нежной, лирической, почти мечтательной мелодичности. Совершенно очевидно, что возможность широкого развертывания образов на плоских поверхностях стен, возможность их попеременного пластического сопоставления именно в живописи осознаны и осуществлены здесь мастером. Он создает образ несколько иной, при всей общности стиля с вазописью, не только по своим формальным качествам, но и по монументализированной полноте чувственно наглядного и одновременно метафорического воплощения целого. Второе различие фрески и вазописи определяется своеобразием цветового решения, особенно ясно выступающего с конца архаики и в эпоху классики. В цветовом построении вазовой росписи (точнее, краснофигурной росписи) и фрески много общего, и все же живопись качественно полноценнее, чем вазопись, трактует цвет.
Вместе с тем обнаруживается общность (при всех различиях, и здесь существующих) в отсутствии интереса к развернутой передаче окружающей среды. Для вазописи она обусловлена стремлением сохранить связь изображения с формой сосуда, но не только этим. В живописи эта причина переставала действовать. Очевидно, близость решений определялась единством общей эстетической концепции, равнодействительной для обоих видов искусства. Еще в зрелую пору архаики — в ином смысле, чем для софиста конца V в. до н. э., — «человек был мерой всех вещей». Сам человек, одухотворенность его тела, разумная гармония его действий, прекрасное единство духовного и телесного начал были высшим выражением ценностей времени. Внимание и зрителя и художника полностью сосредоточивалось на человеческом теле. Изображение окружающей среды не могло иметь решающего значения и не потому, что греческие мастера не умели видеть или бидели иначе, чем мы, окружающую среду, в которой они действовали и жили. Просто они эстетически не нуждались в ее конкретной передаче. Они не чувствовали, что образ человека что-то теряет, если не оказывается связанным с окружающей средой. Не среда, не быт, не обстоятельства окружающей жизни формируют человека. Наоборот, разумность человека, пластическая красота его разумно-целесообразно построенного тела, взаимодействие людей друг с другом, наконец, их организованная деятельность вносят в мир гармонию красоты. В его образе и выражен, следовательно, конечный, высший результат — цель всей деятельности человека.
Конечно, античный мастер прекрасно представлял себе, что человек существует в реальном мире, взаимодействует с ним. Но этот мир был в той мере прекрасен, целесообразен, в какой он обладал разумной гармонической построенностью, когда в противовес неизобразимому, бесформенному хаосу возникало стройное, гармонически построенное прекрасное тело организованного космоса. И космос, и прекрасная структура человеческого тела, и разумная структура полиса, построенного по законам человека и воплощенная в его зодчестве, — все они как бы созданы по единым общим законам гармонии, гармонии пластически выражаемой. Не случайно, какие бы законы ни закладывали древние мудрецы в свое понимание космоса, он всегда для сознания древнего эллина был как бы неким огромным телом, построенным по ясным структурным законам.
Этот принцип законченной гармонической построенностй, противостоящей первозданному хаосу, находит высшее, телесно зримое воплощение в зодчестве, живописи и особенно ваянии. Художник, обосновывая
124
свое решение той или иной философской или мифологической мотивировкой, обращался ли он к богу или герою, находил в живом человеке, в его одухотворенном теле истинную красоту. Именно поэтому человек являлся в сфере искусства высшей ценностью, мерилом всего, был эстетической «мерой вещей». Красота же мира, постижение ее принципов воплощались и в преображенной человеком среде — в архитектуре, в мире вещей.
Это вовсе не значит, что отношение человек — природа не входило в сферу художественного внимания древнего эллина. В отличие от первобытного охотника, который видел только отдельного зверя — предмет добычи и только его изображал в магических целях, эллин знал и проблему соотношения человека с окружающим миром, проблему осмысленного гармонического или контрастного взаимодействия отдельных людей друг с другом, образущих ясную расчлененность коллективного целого. Но он ее видел и понимал по-другому, чем, скажем, европеец XVII века, познавший безмерную огромность мира, его вечное становление, текучесть, столь противоположные представлению о кристаллически ясной, законченной гармонии античного космоса.
Человек XVII века знает и ощущает, что сама по себе божественно-человеческая природа не есть «мера всех вещей», что человек — пылинка в космических бурях вселенной, в стихийно-безличном ходе социальноисторического процесса. Если же брать этот аспект в более бытовом плане, то следует заметить, что для человека XVII века сам характер, тип человеческих взаимоотношений, сами удовольствия, которые он может почерпнуть из жизни, неразрывно связаны с окружающими условиями (ему враждебными или созвучными), всей окружающей его социально-бытовой средой, сложной, богатой, дифференцированной. Поэтому человек или выхватывается трепещущим сиянием духовного света из неопределенной мглы бесконечности, как герои позднего Рембрандта, или обретает полноту своего реального существования через показ своей неразрывной связи, своей обусловленности всей окружающей бытовой средой, им создаваемой и им формируемой. Чтобы понять душевный мир «среднего» голландца XVII века, мы должны вместе с героями Питера де Хоха окунуться в атмосферу его быта. Чтобы понять трагическую взаимосвязь безмерного мира с личностью малой и вместе с тем великой своей этической стойкостью и глубокой духовностью, мы должны погрузиться в странный мир позднего Рембрандта. Для греческого художника «растворение» человека в сфере быта просто немыслимо. Также немыслимо для него и ощущение зыбкой бесконечности пространства, присущее Рембрандту, или стремительно пульсирующего рубенсовского мира, где люди — как бы всплески, сгустки его кипения. Вместе с тем эстетическая проблема взаимоотношения человека и мира, человека и среды решается и эллином. Она не может не решаться художником с того момента, когда культура поднимается над полуживотным состоянием первобытного человека. Для грека эта проблема решается в своебразном возвышенно гармоническом плане, главное, в пронизанном общим для античного художественного сознания ощущении обобщенности — в универсализме художественных образов. Она выступает в основном в двух аспектах. Прежде всего это соотношение с той средой, которая построена самим человеком по законам целесообразности и красоты, с тем микрокосмом полиса, который вносит строй, порядок, разумность общественного быта в стихию природного мира. Такой преображенной средой и является архитектура в ее высших культовых и общественно-гражданских проявлениях. Так, создается тот синтез изображенного образа человека и образа преображенной им среды (ваяния и зодчества), который составляет обаяние монументального античного искусства. Это одна из сторон античного искусства, которая делает его столь близким и созвучным нашим этическим и эстетическим потребностям, нашим современным идеалам, характеризующимся верой в конечную разумность и гармонию человека и человеческого коллектива в борьбе с силами, утверждающими торжество хаоса, неразумия, исходящими из злобного или горького убеждения в ничтожестве человека. Более того, стремление и возможность создать величавый синтез зодчества и монументального искусства возрождают на новой ступени и в новом более сложном контексте те принципы, которые впервые были обретены античностью. Таким образом, проблема человек — среда решается античным искусством в сфере монументальной, в сфере соотношения изображения человека с преображенной им средой.
Второй аспект этой проблемы с наибольшей полнотой решается в статуарной пластике. Он впервые сознательно и с суровой, почти беспощадной прямолинейностью осуществляется уже в зрелой архаике. Упругая энергия, исполненная внутреннего волевого усилия архаического куроса, ясная кристалличность его силуэта, пребывание в состоянии героической радостности, выраженной не только в архаической улыбке, но и во всей пружинистой энергии форм тела, противостоят и как символ и как живой образ безбрежному хаосу окружающего мира, внося в него порядок, разумность, создавая вокруг себя своеобразную, полную огромной силы почти магическую зону, где господствуют гармония, воля и разум.
Это представляется также и зримым воплощением метафоры телесной стройности божественно-человеческого космоса, подчиняющего себе первозданное, всегда дышащее, всегда готовое прорваться извечное и смутное начало хаоса. Здесь проблема решается прямым утверждением человеческой или божественночеловеческой волей олимпийца начал порядка, разума над неопределенной зыбкостью окружающего мира. Здесь человек вступает в противостояние тому, что не очеловечено, создавая вокруг себя своеобразное, преображенное самим присутствием этой статуи особое очеловеченное состояние среды. Эта суровая антиномия среды и человека в эпоху классики будет смягчена, гармонизирована, сам мир будет восприниматься более космичным, чем хаосным. Но превращенный в контраст гармонический, он всегда наличествует и во многом определяет ту огромную внутреннюю нравственную силу и энергию, которыми пронизан, казалось бы, безлично гармонический образ древних античных статуй.
125
Кроме этого всеобщего художественно-философского представления о месте человека в окружающем мире и об особом этико-эстетическом значении связи человека со средой, все же время от времени не могла не давать себя знать иная сторона проблемы — связь человека с повседневной средой, понятой в своей натуральной конкретности. Конечно, главное полагалось в самом образе человека, в самом максимально и явственно выявляемом характере взаимодействия человека с человеком, человека с группой людей. И все же на определенной стадии развития искусства этот момент потребовал своего, хотя бы частичного эстетического отражения.
Конечно, в эпоху архаики, да и отчасти ранней и зрелой классики образ человека в основном выступал как образ божества, выражающего самые универсальные качества человеческого начала в жизни или воплощающего некие мифические события, в самой общей форме выражающие существеннейшие стороны бытия космоса или человека. Реальные же частные формы изображения природы, мира не стояли перед художником как осознанная им задача. Так, тема борьбы Персея и Медузы явилась в искусстве чувственным воплощением неких самых общих свойств бытия, борьбы человеческого разума и воли с враждебными ему хаотическими силами.
Но по мере того как и сам реальный героизованный человек от предстояния и противостояния миру, как это было в архаических куросах, переходит к действию, вступает во взаимодействие с другими персонажами, характер художественного образа, не теряя своей универсальной значимости, становится постепенно более конкретизированным. Проблема изображения бытовой среды или пейзажа здесь может и не возникать, но все большее значение приобретают те атрибуты, те предметы, которые конкретизируют общий тип, общий характер действия человека. Это уже элементы конкретной предметной, бытовой и природной среды. Они показаны в той мере, в какой являются частью пластического действия человека, причем сами они выступают как пластически обозримые предметы. Таковы, например, трезубец в руках Посейдона, диск в руках дискобола, флейта, брошенная между Афиной и Марсием.
Постепенно возникает необходимость и пластического напоминания о месте действия, среды. Но цель такого напоминания состоит в том, чтобы показать не поэтичность самой среды или ее бытовую натуральную конкретность, а сделать более ясным как смысл пластической красоты движения статуарных фигур, так и общую фабульную ситуацию. Такова атрибутивно-информативная роль морской гальки под ногами у Ор, принимающих рождающуюся из моря Афродиту, таковы пиршественные ложа, чаши, музыкальные инструменты в сценах пиршества как у вазописца, так и у мастера росписи «Гробницы ныряльщика». Но поскольку основное — не бытовые околичности, а ритуальное и символико-поэтическое значение предмета, постольку не ощущается, да и не должна ощущаться эстетически целесообразная скупость всех этих атрибутов, которые, однако, не отвлекают от созерцания главного эстетического и этического смысла изображаемого художником события.
Однако чем дальше искусство стремится перейти к большей конкретизации реального быта, реальной деятельности человека, чем больше ослабевает героическая сосредоточенность эстетического сознания на величии самого человека, чем ближе мы приближаемся к поздней классике и к исчерпанию художественной культуры полиса, тем сложнее становится эта проблема. Уже в V в. до н. э. в вазописи проявляется интерес к такому изображению жизни, людей, при котором именно околичности их бытовых занятий являются носителем некоего поэтического художественно содержательного начала. Такова, например, относящаяся еще к первой половине V в. до н. э. ваза, изображающая мастерскую гончара, где повышенный интерес к условиям, деятельности человека вызывает постепенное нарастание значения отдельных атрибутов, приобретающих самостоятельную изобразительную ценность: гончарные печи, заготовленные вазы и так далее. Эта тенденция в период зрелой классики, однако, не получает своего развития.
В конце V и в IV в. до н. э. растущий интерес к интимно-личной и конкретно-бытовой стороне человеческой деятельности приводит к стиранию старой пластической формы, к появлению элементов реального пейзажа, бытовой среды, не могущих еще сложиться в новую концепцию мира, но своими полными натуральной жизненности фрагментами разрушающими ясную целостность классического искусства. В этот переходный период относительная беспомощность в передаче натуральной среды выступает особенно явственно, поскольку введение новых элементов в старую художественную систему, разрушая ее, не приводит еще к созданию ясной, художественно законченной новой концепции. Но на протяжении VI и почти всего V в. до н. э., как правило, такие противоречия, такая двойственность художественного языка за редчайшим исключением не дают себя знать. Так, в вазописи VI в. до н. э. мотив купания женщин обязывает мастера Приама к несколько более подробному обозначению среды, чем это обычно было принято.
В живописи одним из таких исключений и является роспись на внутренней стороне крышки саркофага «Гробницы ныряльщика». Как уже говорилось, на ней изображен юноша, ныряющий с некоего возвышения в море, обозначенное странно вспухшей зеленовато-голубой массой. Этот несколько неожиданный сюжет на самом деле был органически связан с общим идейно-смысловым содержанием фресок и с назначением гробницы. Произвольное введение того или иного мотива в ясную законченность художественного целого не было свойственно мастерам архаики и классики. Тем более что само искусство в это время не существовало как особая, формально самостоятельная область человеческой духовной деятельности, а всегда было неотделимо от культового или общественно-гражданственного назначения целого.
Сейчас трудно объяснить внутреннюю обоснованность введения этого мотива. Возможно, что оно определялось распространенным в конце VI в. до н. э. мистическим учением о душе человека, посмертно погружающейся в мировой океан. Возможно, это связано с ритуальными мотивами очищения, и несоизмеримо менее вероятно, что фреска напоминает о любви
126
покойника к купанию. Но несомненно, композиция эта имела свой глубокий и необходимый смысл. Вместе с тем обращение к такой теме невольно выводило своеобразный античный реализм за круг привычных художественных представлений и приемов. Центральным оставался образ человека, но смысл его действия в данном случае нельзя было объяснить вложением в его руку какого бы то ни было предмета. Необходимо было хотя бы атрибутивно показать характер среды. Кстати, в вазописи в то время Это делалось достаточно часто. Так, например, если в росписи вазы V в. до н. э. «Афина, наливающая вино отдыхающему Гераклу» изображался «диалог» персонажей в роще, то достаточно было показать дерево, чтобы проинформировать о характере места действия. Здесь же нужно было изобразить среду, существующую вне человека. То, что мы имеем дело с природой, как и в вазописи, показывается двумя деревцами, выполняющими попутно и декоративную функцию. Но необходимо показать и то, куда устремился ныряльщик — морскую влагу, сам ее цвет. Язык живописи, ее цветовой строй, ее потенциальная пространственность давали этому особые возможности, здесь они требовали от мастера хотя бы частичной реализации. Поэтому ныряльщик летит в направлении зеленоватой, волнистой по контуру массы. Своим контуром она одновременно напоминает о волнах моря, своим зеленоватым цветом— о его окраске. Вместе с тем криволинейность контура намекает, может быть, минуя сознательную задачу, которую ставил себе художник, на выпуклую закругленность морского горизонта. Но в целом этот кусок моря остается все же довольно наивно и условно показанным предметом, без которого нельзя было обойтись, чтобы сделать сюжет понятным. Конечно, голубовато-зеленоватый цвет моря занимает определенное и точно найденное место в цветовой композиции целого. Этот цвет выполняет не только информационную роль, он выразительно противостоит коричневатой смуглости летящего в воду юноши. Это именно живопись, а не графика краснофигурной вазовой росписи. Однако совершенно естественная для художника начиная с эпохи Ренессанса потребность, показав море и линию горизонта, показать голубизну неба, иную, чем зеленоватую синеватость моря, пока не возникает в воображении античного художника.
В этой росписи впервые ввиду исключительной особенности задачи выступают те потенциальные противоречия в понимании соотношения человека и природной реальной среды, которые в период перехода от поздней классики к эллинизму и станут одной из причин разрушения законченной системы художественного языка культуры полиса.
Возвращаясь к вопросу о живописной выразительности цвета фресок, следует заметить, что было бы неверно сводить отличие росписи гробницы от вазовой росписи только к тому, что художник применяет несколько большее количество красок. В росписи были использованы белый, коричневато-вишневый, более светлый красновато-терракотовый, голубой, розовый и черный цвета. Конечно, эта палитра, с точки зрения современного художника, очень ограниченна. Для самого применения цвета характерно, что каждая цветовая поверхность, взятая сама по себе, носит локальный характер.
Живопись гробницы решительно отличается от вазописи, как чернофигурной, так и краснофигурной. По сравнению с чернофигурной росписью мастер гробницы, так же, как и мастера краснофигурной росписи, отказывается от условного черного силуэта и обращается к более близкому природе человеческого тела красноватому тону. Но здесь между вазописью и живописью существенна принципиальная разница. В краснофигурной технике это, по существу, не раскраска, а сохраненный натуральный цвет обожженной терракоты — коричневато-красноватый или коричневато-желтый, контрастно выступающий на черном фоне. Принципу двоичности основного цветового построения краснофигурной техники здесь противостоит собственно живописное изображение человеческого тела на светлом фоне стены, возможно, первоначально окрашенного в мягкие, чуть розоватые тона.
Не менее важно и то, что немногие цвета, которыми оперирует живописец, при всей локальности каждого цветового пятна, образуют тонко разработанную живописно-ритмическую систему цветовых взаимоотношений. В этой фреске с большой музыкальной ясностью осуществляется один из существенных принципов, лежащих в основе художественного языка живописи, — создание определенного цветового сочетания и ритма, созвучного определенному эмоциональному состоянию. И здесь действительно краски исполнены сдержанной торжественной праздничности. Так, через всю композицию проходит мотив цветосочетания — нежно-голубой и розовато-красной раскраски пиршественных лож. Голубой цвет в более холодной и яркой бирюзовой тональности вспыхивает в плаще, наброшенном на плечи нагого танцующего мужчины. Сдержанная мягкость звучания голубого цвета приобретает здесь как бы более высокую степень своего цветового звучания, контрастно соседствуя с легким и светлым по цвету силуэтами флейтистки и сопровождающего ее юноши. Цвета гиматиев, окутывающих ноги и чресла пирующих, создают очень выразительную живописно-цветовую композицию. На трех ложах слева цвет чередуется следующим образом: мягкий, золотисто-оливковый гиматий мужчины с протянутой чашей, затем коричневато-вишневый гиматий юноши на втором ложе, а в третьем ложе снова повторяется цвет первого гиматия. Однако живописная симметричность такой композиции сознательно нарушается темно-оливковыми полосами, символизирующими игру складок на последнем гиматии.
На правой стороне чередование цвета более динамично: коричневато-золотистый гиматий первого пирующего сменяется белым во второй группе и завершается густо-вишневым в третьей. Любопытно, что этому менее уравновешенному чередованию цвета на второй плите сопутствует более спокойно-мягкая трактовка движений и силуэтов фигур по сравнению с первой плитой. Сложная гармония композиционного целого строится, следовательно, по принципу более бурного развития движения при более уравновешенной цветовой композиции — слева, более мягкого движения при более динамичной цветовой композиции — справа. Композиционное равновесие обеих плит как бы восстанавливается, оно приобретает характер гармонической согласованности качественно различных,
127
не монотонно повторенных ритмических приемов. В какой-то мере этот принцип аналогичен тому своеобразному равновесию, которое достигнуто в олимпийской метопе «Борьба Геракла с критским быком»: более грузная, но более медлительно инертная масса быка уравновешивается менее тяжелой, но более динамически активной массой тела Геракла. Принцип свободы от зеркального декоративного равновесия, как видно, типичен для художественного сознания классики. В данном случае имеет важное значение то, что этот принцип здесь проведен не только пластическими, но и собственно живописными средствами.
В целом «Гробница ныряльщика» (наряду с росписями белофонных лекифов) дает драгоценную возможность представить то специфическое художественное место, которое занимала в период ранней классики античная живопись. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на относительную локальность и простоту палитры, художник очень тонко использует различные оттенки одного и того же цвета, добивается очень гибкой модуляции всей цветовой системы. Поэтому цвет активно участвует в создании образно-эмоциональной атмосферы картины, включаясь в своеобразное упругое дыхание и живой ритм ее развития.
Такое использование цвета имеет некую аналогию с пластикой, которая в античном искусстве сочетает кристаллическую ясность построения объемов человеческого тела с удивительно тонкой модуляцией его пластической жизни.
Конечно, иной зритель обратит преимущественно внимание на ограниченность живописных средств такой росписи по сравнению с монументальной живописью эпохи Возрождения или станковой живописью XVII— XIX веков. Однако живописный метод античного мастера на самом деле не может быть назван примитивным. Дело в том, что он органически соответствует как художественной задаче, которую ставил себе мастер, так и общему характеру эстетических запросов античного сознания.
Несколько ранее отмечалось, что понимание человека, его места в окружающей среде, представление об обобщенном универсализме художественного образа требовали пластической ясности, музыкальной прозрачности ритма, сосредоточения внимания на жизни человеческого тела. Решение этой задачи средствами живописи в V в. до н. э. было найдено оптимальное. И действительно, сцена симпосия, изображенная на гробнице, поражает художественным благородством, образной цельностью. Единство формы и содержания как один из принципов современного произведения искусства осуществляется в античной живописи в достаточной мере. Другой вопрос, что в пределах античного художественного сознания потенциальные возможности живописи как вида искусства оказываются все же не раскрытыми до конца. Однако греки создали по-своему гармонически совершенную систему живописи. В ней нельзя ничего ни убавить, ни прибавить, не разрушая ее художественного обаяния.
Лишь в позднюю эпоху, особенно в период эллинизма, и в Римской империи происходит изменение античного мировосприятия, меняется художественный язык пластики. Вместе с тем тенденция к более жанрово-лирическому восприятию окружающей среды, смена героической концепции человека более интимной, постепенный отход от синтетического восприятия мира к более дифференцированному порождает ряд изменений и в живописи. Достаточно сравнить с «Гробницей ныряльщика» утонченное изящество помпеянских фресок с их относительно развитым пейзажем, более атмосферно-цветовым восприятием, как мы почувствуем тот огромный путь, который прошла в послеклассический период античная живопись. Живопись стала сложнее, богаче, ее образная интонация — более лирической и утонченной. Однако, не желая снижать ценность лучших произведений помпеянской живописи, все же надо признать, что ее немалые достижения куплены ценой отказа от той монументальной силы и поэтической строгости, которые характеризуют, как мы теперь знаем, живопись классики.
О логике последующей художественной эволюции живописи V в. до н. э. мы можем судить лишь в самой общей форме.
Как известно из источников, во второй четверти и в середине V в. до н. э. величайшим мастером живописи почитался уроженец острова Тасоса Полигнот. Он работал примерно одновременно с Мироном и был удостоен почетного звания афинского гражданина. Полигнот — мастер больших настенных многофигурных композиций, отличающихся благородной сдержанностью и торжественным величием целого. Согласно литературным источникам, в частности Аристотелю, Полигнот «изображал людей лучшими», в то время как другие позднейшие мастера делали их «худшими или похожими на нас». Следует отметить, что аналогично оценивались и образы человека, создаваемые Поликлетом и Фидием по сравнению с Лисиппом. Большим достижением Полигнота явилось то, что он передавал состояние души не только через общую пластику движения, но и прибегал наряду с жестом к зачаткам передачи мимики. Древние ссылались на то, что он движением бровей придавал лицу живость. Так же, как мастера пластики того времени, он трактовал драпировки одежды, как эхо жизни тела, выразительно сопоставляя ритмы жизни нагого тела с живописной игрой драпировок. Полигнот также прибегал к обозначению места действия: так, он обозначал берега реки. Нечто подобное, как видно из анализа «Гробницы ныряльщика», было свойственно живописи классического периода уже с начала века.
Судя по всему, новым было стремление Полигнота видоизменить формы композиционного построения многофигурных сцен. От фризообразного расположения фигур в одной плоскости он переходит к их свободному расположению по всей поверхности стены, однако, видимо, сохраняя при этом единый масштаб для всех фигур. Представление о том, как могла выглядеть такая расстановка фигур, а также о том, как он использовал обозначение неровностей почвы для оживления групп, дает большой кратер с изображением Геракла и аргонавтов из Орвието.
Как и живописцы предшествующего времени, Полигнот обладал очень ограниченной палитрой. Считалось, что он в основном обходился четырьмя красками: черной, белой, желтой и красной. Эти ссылки, однако, нельзя принимать слишком буквально. Маловероятно, чтобы палитра мастера зрелой классики при всей
128
его тяге к монументальной ясности была бы беднее, чем палитра художника ранней классики или VI в. до н. э. Кроме того, сохранились сведения, что на одной из своих картин тело демона Полигнот закрасил тоном средним между синим и черным, в том же духе он пытался раскрасить утопленника в зеленовато-синий цвет. Все же в целом живописи Полигнота были, вероятно, присущи монументальная декоративность и локальность цвета. Характерно, что Полигнот, как и мастера вазописи, вводил в фреску надписи с именами участников действия, стремясь тем самым конкретизировать изображения.
Наибольшей славой среди работ Полигнота пользовались его грандиозные композиции в Дельфах, украшавшие лесху (помещение для отдыха и бесед), воздвигнутую книдянами. На стенах лесхи были изображены взятие Трои и подземное царство. Каждая композиция, заполняющая поле в 9 х 4 м, включала от 70 до 90 фигур и, судя по всему, распадалась на ряд относительно самостоятельных групп. Так, на картине «Разрушенный Илион» в центре и наверху были изображены греческие вожди, осуждающие Аянта за оскорбление богини Афины, внизу и по бокам — убитые воины, плачущие пленницы и так далее. В этой же фреске находилась сцена, показывающая Неоптолема, убивающего троянцев. Особая группа была посвящена Елене и Андромахе. И наконец, там же были представлены морской берег и часть корабля Менелая, готового к отплытию, а также часть крепостной стены с видневшейся из-за нее головой деревянного коня, при помощи которого греки обманно проникли в Трою. На другой стороне картины был изображен дом Антенора, который был пощажен греками. Можно было бы и дальше перечислять многочисленные эпизоды, включенные в роспись, но и сказанного достаточно, чтобы предположить, что картина скорее всего представляла собой сочетание ряда отдельных, композиционно самостоятельных эпизодов. Насколько между этими группами существовала ритмическая связь, мы в настоящее время судить не можем. В навеянных фресками Полигнота вазах эта связь не усматривается в сколько-нибудь ясной мере. Но все дело в том, что «раскадровка» на круглую поверхность вазы не могла не нарушать композиционного решения, найденного на плоскости. Между тем ритмически упорядоченная композиция всех групп, изображенных в «Гробнице ныряльщика», бросается в глаза. Поэтому можно предположить, что на более зрелой стадии эволюции живописи такой знаменитый мастер, как Полигнот, мог все же найти какой-то принцип ритмического соотношения этих многочисленных и разнородных групп. Вторая половина творчества Полигнота протекала в Афинах, где он выступал часто совместно с мастером Миконом. В 460-х гг. до н. э. Полигнот и Микон создали росписи, посвященные Тесею. Полигнот изобразил участие Тесея в борьбе лапифов с кентаврами, а Микон — посещение Тесеем морского царства. Несколько позже Полигнот, Микон и Панен украсили стою в Пропилеях, получившую название «Пойкиле» («расписная»), рядом картин как на мифологические темы («Взятие Трои» и «Амазономахия»), так и на исторические темы («Битва при Марафоне» и «Битва при Иное»).
Характерен сам выбор тем — в них можно усмотреть единство идейных задач, стоящих перед живописью и современной монументальной скульптурой. Эти темы связаны с возвеличиванием мифического прошлого Афин — «Амазономахия» — и борьбой греков с Востоком, ассоциируемой с недавно пережитой грекоперсидской войной. В ансамбль было включено и конкретное событие недавнего прошлого — «Битва при Марафоне», то есть первая победа афинян в борьбе с персидским нашествием. Правда, сюда же вошла композиция «Битва при Иное». Здесь афиняне пытаются ставить в один ряд с мифом и эллинской войной с персами свои внутренние полисные распри (сюжет «Битва при Иное» навеян эпизодом из войны афинян в союзе с Аргосом против спартанцев), что несколько снижало высокий общеэллинский пафос росписей портика. Вместе с фризом больших Панафиней, фризом на храме Ники Аптерос, росписи «Битва при Марафоне» и «Битва при Иное» — один из немногих примеров обращения искусства зрелой классики к конкретной исторической теме. Появление таких тем было связано с особой интенсивностью развития общественно-гражданской жизни в полисах классического времени, и особенно в Афинах.
Видимо, «Битва при Марафоне» представляла определенный шаг в развитии реалистических устремлений автора. Судя по описанию древних (в частности, Павсания), был изображен не только момент атаки греками варваров, но также показаны и завершающие битву эпизоды. Как говорил Павсаний, «на самом конце картины представлены финикийские корабли, на которых спасаются варвары, а их убивают эллины»1. Нет данных, однако, предполагать, что эти разновременные события были размещены в единой пространственно-пейзажной среде. Скорее следует предполагать, что мы имеем дело не с изображениями, связанными единой перспективой и пространственной средой, а с расположением на плоскости отдельных групп, но так или иначе ритмически композиционно объединенных.
Авторство «Битвы при Марафоне» приписывают Ми-кону. Возможно, что Микон в завершающий период своего творчества уже отходил от строгих традиций классического монументального искусства и смелее вводил некоторые новые приемы. В частности, существует упоминание о том, что Микон прибегал к портретному сходству или, во всяком случае, к некоторой индивидуализации изображения. Впрочем, считается, что и Полигнот — возможный автор «Битвы при Иное» — поместил на картине портретные изображения вождей сражения. В какой мере речь может идти о реальных портретах или о надписях, как в вазописи, сейчас судить трудно.
Одной из особенностей искусства Полигнота древние считали широкое введение в картину женских образов. Они, естественно, занимали соответствующее место и в «Кентавромахии», и в «Амазономахии», и в сцене «Избиения женихов Пенелопы». При обращении к сюжетам такого рода изображение женских персонажей не может почитаться за какую-то особенность творчества лишь данного мастера. Однако древние
1 Павсаний. Описание Эллады, т. 1. М., 1938, с. 47, 48.
129
связывали обращение Полигнота к женским образам с проявлением со стороны художника интереса к передаче эмоционального состояния героев (униженная печаль пленницы Бризеиды, ужас Кассандры, страстность Федры и тому подобное). Возможно, в живописи зрелого Полигнота и зрелого Микона в какой-то мере содержатся зародыши патетического искусства, подготавливающего появление драмы Эврипида (трагик создал широкий круг женских образов драматического характера), а также предвосхищающего творчество таких блестящих мастеров периода позднейшей классики, как Скопас.
Некоторое представление о живописной манере конца V в. до н. э. может дать прекрасная серия живописных фризов на досках из кургана Куль-Оба (Керчь). Один из фризов изображает похищение дочерей Левкиппа, другой — борьбу аримаспов с грифонами, третий фриз посвящен декоративному изображению животных. Принципальное значение имеет то, что на фризе в группе скачущих коней один из них частично закрывает другого. Это пример более реального изображения группы в живописи второй половины V в. до н. э. по сравнению с началом века. Также очень показательна передача теней на некоторых из фризов. Это важный шаг к ощущению среды, освещения, ранее неведомый живописи. Возможно, что уже Микон владел этим приемом.
Искусство живописи в последней трети века подводит нас вплотную к искусству поздней классики. Так, с именем Аполлодора связывают открытие светотени (вероятно, света и тени, или некоего сфумато). Аполлодор также почитается первым живописцем, применившим полутона. Впрочем, зародыши этих новаций можно усмотреть и в творчестве Полигнота. Как бы то ни было, с творчеством Скиаграда (Изобразителя тени) — Аполлодора живопись приходит вплотную к более зрелому этапу своего развития.
Более связан с традициями зрелой классики был, видимо, Паррасий, принимавший участие в работах на Акрополе под руководством Фидия. Возможно, Паррасий в совершенстве владел схематой, способностью передавать душевные состояния героя, о чем красноречиво свидетельствует уже упомянутая ранее беседа Сократа с художником.
Важной новой особенностью его искусства явилось широкое обращение к сюжетам современных ему трагедий, что связано с нарастающей драматизацией образа в искусстве конца зрелой классики (например, «Прометей», «Филоктет» и так далее).
Интерес к известной жанризации мифологических образов — также новая черта в искусстве зрелой классики — был, очевидно, свойствен творчеству последнего из знаменитых живописцев V в. до н. э. Зевскису. Такова была, судя по описанию Лукиана, идиллически трактованная семья кентавров — неожиданный для этого времени мотив. Если вспомнить, что Тиманф примерно в это же время в картине «Жертвоприношение Ифигении» стремился согласно сюжету передать разные градации состояния скорби участников события, то можно сделать общий вывод, что живопись к концу V в. до н. э. вплотную подошла к сознательному развитию своих изобразительных и выразительных возможностей. Их разработка в связи с общей эволюцией художественных представлений того времени относится уже к последующему времени, к IV в. до н. э., и в особенности к эллинизму.
Подготовлено по изданию:
Колпинский Ю. Д.Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. М., «Изобразительное искусство», 1977.
© Издательство «Изобразительное искусство». 1977